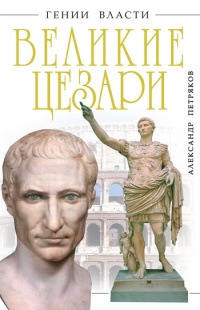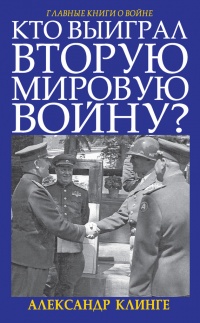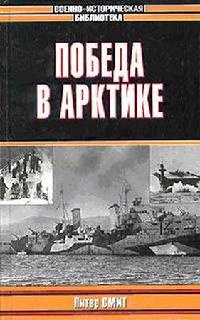Книга Диво - Павел Загребельный
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ярослав посмотрел на него немного удивленно, но одновременно и с раздражением.
- Молвил я не раз тебе, княже, - не уловив перемены в настроении властелина, доверчиво бормотал Ситник, - всегда следует смотреть, откуда человек пришел и что он за человек... Вот Пантелей, отрок... Откуда пришел? Из Древлян. С кем?
- Постой, - устало сказал князь, и в голосе у него еще было полно доброты, - не тарахти. Говорено же тебе многажды: для державы в человеке важны прежде всего способности. Пантелей умудрен письму, а ты - не способен. Так кого я должен выбирать для дел летописания?
- Верно молвишь, княже великий, о способностях, - склонил голову боярин. - А душа? Душа должна быть чистой и преданной. Так? А ежели у человека душа, будто у дикого коня - тарпана: так и рвется, так и рвется? Тогда что? Тогда нужно присмотреться к человеку пристально: кто он, откуда, как, почему?
- Надоел, - прервал его князь. - Говори, что там у Пантелея? Почему цепляешься к отроку?
- Пишет не то! - выпалил боярин.
- Откуда знаешь? Ты ведь в письме темен.
- Для князя все сделаю!
- Говори толком!
- Не то пишет! - снова воскликнул Ситник. - Каждый день принимаю у него исписанные харатьи, он и заприметил, видно, что я в письме не смыслю. И вот пишет, пишет - да писнет!
- Что же?
- Супротив князя, видит бог.
- Ведомо тебе откуда, спрашиваю?
- А я хитрый! Заметил, что на каждой харатье слова пишутся в два столбца - по двадцать и пять строчек, и устав одинаковый, так оно заведено, так этому Пантелей пресвитером Илларионом и обучен. Но нет! Дописывает он между столбцами еще что-то, сверх этих узаконенных строк... Лишние? Лишние. И устав там маленький, словно бы прячет в нем отрок греховные мысли. Что-то там есть, княже, что-то бродит в душе отрока! Да и у одного ли отрока!
- Ну, вот что, - сказал Ярослав, - вот я хотел просить тебя, да забыл. Наверное, придешь завтра.
- А как же с Пантелеем?
- Кто князь - ты или я? - тихо спросил Ярослав, и лицо его начало наливаться гневом.
- Ты, княже, ты, а я раб твой преданный. - Ситник отступил до самого порога. - Грешен я, но слабость имею к тебе, княже. Хочу как лучше. Стараюсь денно и нощно, хотя и тяжко. И с иконами, и с попами тяжко, и со смутьянами, и с этими письменами, и с Софией да Сивооком. Не доведет до великого добра наука и письмо, но ради тебя, княже, все делаю... Все богатство свое отдал за книги... Купил у гречинов несколько книг, уже имею... целый сундук...
- В голове нужно, а не в сундуке, - мрачно улыбнулся Ярослав.
- Семью забросил... Доченька у меня была, Величка... Умерла от хворости, а я с тобой тогда в походе был, не смог спасти.
- Ну, ладно, ладно. - Ярославу стало не по себе. У всех горе, все перед смертью бессильны. Не знал князь, а Ситник не говорил, что Величка не просто умерла от мора, а сбежала из дому еще тогда, когда он отвез малого Сивоока с намерением продать его кому-то. Сбежала и исчезла. Никогда не вспоминал боярин о дочери, а сегодня подслушал разговор князя с княгиней, смекнул, что может пригодиться и смерть Велички. Ждать не довелось. Пригодилось.
- Я там принес эту харатью. За дверью она у меня, в сундучке, заторопился Ситник, улавливая перемену в настроении Ярослава. Не стал ждать, что скажет князь, метнулся за дверь, внес сундучок, достал пергамент, подал Ярославу.
Ярослав сразу же увидел дописанные отроком слова про слезы. Догадался, наверное, почему дописал это отрок, но Ситнику не сказал, вместо этого вслух прочел ему место, в котором речь шла о книгах. Боярин слушал оторопело.
- Понял? - спросил у него по прочтении князь. - Мудрость нам нужна. И люди для мудрости - тоже. Понял?
- Ага, так, - захлопал глазами Ситник, хотя ничего не понял и не сообразил, только обливался потом от страха перед князем и глубоко затаенного недовольства на него за то, что он отдает предпочтение какой-то там мудрости перед делами государственного значения, делами первостепенными, сравнить которые можно разве лишь с краеугольным камнем в здании. Вынь этот камень - развалится все здание.
ЛЕТО. КИЕВ
Изгибы твоих бровей
могут довести до
бешенства... твой упругий
живот - словно арена для
боя быков в Ниме.
П.Пикассо
Уехал - приехал. А что изменилось? Киев точно так же нежился под ласковым солнцем, утопал в буйной зелени своих парков и скверов; по его улицам, новым и старым, с лихорадочной скоростью мчались куда-то машины, гудели мосты; под летним светло-голубым небом сверкали белые соборы, никто и ничто не замечало отсутствия Бориса Отавы в этом большом городе, не произошло никаких изменений за то время, пока он изнывал в стеклянных канцеляриях Запада; каждый день рождались дети, каждый день во Дворце бракосочетания (кроме выходных) происходили торжественные свадебные церемонии, каждый день умирало какое-то количество жителей - вот так и мы приходим в этот мир и так уходим, незаметно и бесследно. А? Незаметно и бесследно? Неправда! Он поехал и приехал в самом деле незаметно, без духовых оркестров и речей на перроне, без фоторепортеров, но вскоре все газеты написали о результатах его поездки, о том шуме, который он поднял на Рейне, откликнулись живые свидетели, нашлись очевидцы мрачных событий зимы сорок второго года в Киеве; оказалось, что сотням людей близка и небезразлична была судьба Гордея Отавы, а еще более важной была судьба всего, что принадлежало им, что составляло народную собственность.
Возможно, впервые Борис Отава почувствовал необходимость своей специальности не только для отдельных любителей старины, но и для всех. Его приглашали к студентам, на заводы, в клубы, он встречался с городским активом, и всюду его расспрашивали, интересовались его выступлениями, принимали резолюции.
И хотя Борис впервые оказался в центре внимания всего Киева, это не приносило ему радости, им все больше овладевало какое-то беспокойство, он сам не знал, что с ним происходит, объяснял это своей научной миссией на Рейн, потому что, в сущности, он ничего там не добился, лишь потревожил всех этих оссендорферов, а потом поехал себе домой, оставив все хлопоты на долю работников посольства, прежде всего на симпатичного Валерия, которому тоже осточертели рейнская глина и болтливые чиновники, умеющие утопить в потоке слов любое дело.
Своего состояния Борис еще как следует не осознал, и тогда, когда садился в вагон московского поезда, он еще цеплялся мыслью за какие-то там неотложные дела, которые, мол, гонят его в Москву, мысленно клялся прямо с вокзала позвонить в Министерство иностранных дел, чтобы узнать, нет ли новостей с Рейна; в самом деле, побежал сразу же к автомату, бросил двухкопеечную монету, долго прицеливался пальцем в круглые отверстия над номерами, подсознательно ткнул в один кружок, в другой, диск прокручивался туго, со скрипом и скрежетом, раздавались длинные гудки, долго и болезненно отдаваясь в висках у Бориса; наконец на другом конце раздался голос, голос этот был знакомый уже тысячу лет, он существовал для Отавы вечно.