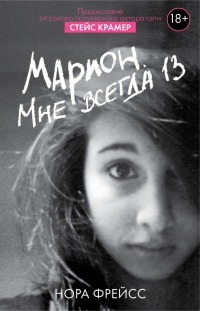Книга Я исповедуюсь - Жауме Кабре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Нет.
– Вот черт…
– Она попросила их выбросить.
– Ну что же это такое…
– Да, очень жаль. Я тоже так считаю.
– И вы ее послушались?
– Попробуй не послушаться вашу жену.
Ночи превратились в нескончаемую бессонницу. Чтобы заснуть, я стал прибегать к странным занятиям, например перечитывал тексты на иврите, который совсем позабыл, потому что мне почти не случалось работать с ним. Я отыскал тексты пятнадцатого и шестнадцатого веков и современные и увидел как живую почтенную Ассумпту Бротонс – в пенсне и с улыбкой, которую я сначала принял за выражение симпатии ко мне, однако потом оказалось, что это было, если не ошибаюсь, что-то вроде застывшей гримасы. У нее было невероятное терпение! Такое же терпение требовалось и мне.
– Achat.
– Ашат.
– Achat.
– Ахат.
– Прекрасно. Это вам понятно?
– Да.
– Schtajm.
– Штайм.
– Прекрасно. Это вам понятно?
– Да.
– Schalosch.
– Шалош.
– Прекрасно. Это вам понятно?
– Да.
– Arba.
– Арба.
– Chamesch.
– Хамеш.
– Превосходно.
Но буквы плясали у меня перед глазами, потому что мне было на все наплевать, потому что я хотел одного – быть рядом с тобой. Я ложился в кровать к утру и в шесть все еще лежал с открытыми глазами. Я забывался тяжелым сном на несколько минут, но к приходу Лолы Маленькой уже был на ногах, выбритый, вымытый и готовый – если у меня не было лекций – отправиться в больницу, чтобы не пропустить чуда, если вдруг милосердный Господь его сотворит.
Наконец как-то ночью мне стало до того стыдно, что я решил встать на место Сары по-настоящему, постараться понять ее до конца. На следующий день Адриа нарочно попался на глаза Доре, которая не так сильно боялась, как я, но выражалась очень уклончиво, потому что в Сарином случае болезнь была не столь необратима, чтобы закончиться смертью; потому что она могла, конечно, провести годы в таком положении; потому что… и я не мог не выступить в защиту Сары, чьи аргументы сводились к одному: сделай это из любви ко мне. Я опять оказался один. Один на один с твоей просьбой, с твоей мольбой. И я чувствовал, что мне это не под силу. Но однажды вечером я сказал Саре: да, я сделаю это. А она улыбнулась и ответила: если б я могла двигаться, то встала бы и расцеловала тебя. А я говорил это, зная, что лгу, потому что не имел ни малейшего намерения осуществлять твою просьбу. Я все время лгал тебе, Сара. И в этот раз, и когда говорил, что прилагаю усилия, чтобы вернуть скрипку… Я возвел поистине грандиозное здание лжи, и все только для того, чтобы выиграть время. Выиграть время для чего? Чтобы бояться и думать: день прошел, и слава богу, или что-то в этом духе. Я посоветовался с Далмау, и он мне рекомендовал не вовлекать в это доктора Реал.
– Слушайте, вы говорите так, будто речь идет о преступлении.
– Но это и есть преступление. По нынешним испанским законам.
– Тогда почему вы мне помогаете?
– Потому что одно дело – закон, а другое – те случаи, которые закон не решается учитывать.
– Иначе говоря, вы согласны со мной?
– Чего вы от меня хотите? Чтобы я подписал какое-нибудь заявление?
– Нет. Извините. Я… ну…
Далмау взял меня за плечи, усадил и, хотя мы и были у него в кабинете, одни во всей квартире, понизил голос. В немом присутствии шокированного Модильяни в желтых тонах он прочел мне краткий курс по оказанию помощи в смерти от любви. Я же понимал, что эти знания мне никогда не пригодятся. Я провел пару достаточно безмятежных недель, пока наконец Сара меня не спросила: когда, Адриа? Я открыл рот. Посмотрел на треклятый потолок, потом на Сару, не зная, что сказать. И пробормотал: я поговорил с… я… что?
На следующий день ты умерла сама. Я всегда буду думать, что ты умерла сама, потому что поняла, что я трус. Ты так хотела умереть, а во мне не нашлось смелости, чтобы пройти с тобой конец пути и поддержать тебя. По версии доктора Реал, у тебя, несмотря на лечение, повторилось кровоизлияние, спровоцированное падением. И хотя ты была в больнице, ничем помочь было нельзя. Ты ушла, а выставка твоих рисунков еще не закрылась. Макс, пришедший с Джорджио, со слезами на глазах сказал мне: как жаль, что она не знала, какой альбом мы для нее готовим. Надо было ей об этом сказать.
Вот так все и было, Сара. Я не нашел в себе сил помочь, и тебе пришлось уйти самой – в спешке, тайком, не оглянувшись, не простившись. Ты понимаешь, как мне горько?
57
– Адриа?
Едва услышав голос Макса, я понял, что он встревожен.
– Да, я тебя слушаю.
– Я получил факс.
– Все нормально?
– Нет. Совсем не нормально.
– Дело в том, что… Я, наверно, нажал не ту клавишу…
– Адриа!
– Что?
– Факс я получил, с ним все в порядке. Ты нажал нужную кнопку, и он до меня дошел.
– Отлично. Так, значит, все в порядке.
– Все в порядке? Ты знаешь, что ты мне прислал? – Он говорил ровно таким же тоном, каким разговаривала со мной Трульолс, если я вместо арпеджио в соль мажор начинал играть арпеджио в ре мажор.
– Биографический очерк о Саре, что же еще?
– Так. И с какой ноты ты начал? – допытывалась Трульолс.
– Слушай, что с тобой происходит?
– Чтобы напечатать его где?
– В конце альбома с ее рисунками. Ты доволен?
– Нет. Я сейчас прочитаю, что ты мне прислал.
Это было не предложение, а утверждение. И я немедленно услышал, как он говорит: Сара Волтес-Эпштейн родилась в Париже в тысяча девятьсот пятидесятом году и совсем юной познакомилась с одним дураком, который влюбился в нее и, без всякого злого умысла, так и не смог сделать ее счастливой…
– Слушай, я…
– Мне продолжать?
– Не стоит.
Но Макс дочитал до конца. Он был ужасно сердит, и, когда замолк, воцарилось очень странное молчание. Я сглотнул слюну и спросил: Макс, я тебе отправил вот это?
Он по-прежнему молчал. Я посмотрел на бумаги, разложенные у меня на столе. Там были еще не проверенные контрольные студентов отделения эстетики. Лола Маленькая наверняка их перекладывала. Еще какие-то бумаги. И… Постой-ка… Я схватил листок, тот самый, который передал по факсу, он был напечатан на «оливетти». Я пробежался по нему взглядом:
– Вот черт! Я точно тебе отправил именно это?