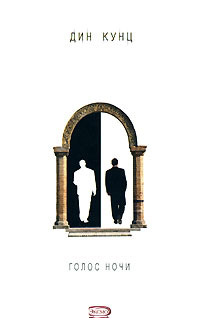Книга Ложная память - Дин Кунц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Точно так же он не смел думать о Ските и Пустяке. Если Ариман сказал правду, если он действительно убил их, то и во всем этом мире, и в сердце Дасти окажется куда больше черных пятен, чем было вчера, и все время, пока он жив, им предстоит разрастаться и чернеть. Сообщение о возможной потере беспокойного, но всем сердцем любимого брата заставило его наполовину оцепенеть, и это было вполне естественно, но он был немного удивлен тем, как глубоко потрясло его известие о смерти Пустяка; флегматичный прилежный маляр был, конечно, немного странноватым, но хорошим и добрым человеком, и с его уходом в жизни Дасти вместо его своеобразной, но искренней дружбы образовалась еще одна пустота.
Он позвонил. Дверь открыла Клодетта, его мать, и Дасти, как всегда, был потрясен и обезоружен ее красотой. В пятьдесят два года ей можно было дать не больше тридцати пяти, а когда ей было тридцать пять, она обладала очарованием, которое, когда она просто входила в комнату, заставляло замереть на месте всех, кто находился в помещении, и это очарование, вне всякого сомнения, останется при ней и в восемьдесят пять. Его отец, второй из ее четырех мужей, когда-то сказал: «С самого рождения Клодетта была настолько хороша, что ее хотелось съесть. И с тех пор мир каждый день смотрит на нее, и его рот наполняется слюной». Это было настолько верно и настолько афористично, что, вероятнее всего, Тревор, его отец, где-то вычитал эти слова, а не выдумал их сам. Хотя эта характеристика казалась на первый взгляд грубоватой, но на самом деле она такой не была. Она была верной. Тревор не имел в виду ее сексуальность. Он говорил о красоте, отделенной от сексуального влечения, о красоте как идеале, красоте, которая была настолько потрясающей, что воспринималась прямо душой. Женщины и мужчины, младенцы и столетние старики равно тянулись к Клодетте, хотели быть рядом с нею, и когда они не отрываясь глядели на нее, то в глубине их глаз читалось нечто наподобие чистой надежды и нечто вроде экстаза, но отличное и от того, и от другого и таинственное. Любовь, которую в изобилии отдавали ей, была любовью незаслуженной — и неоплаченной. Ее глаза походили на глаза Дасти, серо-голубые, но в них было меньше синевы, чем у него, и в них он никогда не видел того, что каждый сын хочет увидеть в глазах своей матери. И при этом он всегда видел тщетность надежды на то, что она нуждается или хотя бы может согласиться принять ту любовь, которую он готов был излить на нее. Когда он был ребенком, этого желания было больше, но все же оно сохранилось в нем до сих пор.
— Шервуд, — сказала она, не собираясь ни дать сыну поцеловать себя, ни протянуть ему руку, — что, теперь все молодые люди приходят в гости без предупреждения?
— Мама, ты же знаешь, что меня зовут не Шервуд…
— Шервуд Пенн Родс. Так написано в твоем свидетельстве о рождении.
— Ты отлично знаешь, что я официально сменил это имя…
— Да, когда тебе было восемнадцать лет. Ты был непослушным и еще более дурашливым, чем сейчас, — ответила она.
— Дасти — так все мои друзья называли меня, еще когда я был маленьким.
— Ты всегда дружил с худшими учениками в классе, Шервуд. И вообще связывался с самыми неподходящими людьми. Казалось, что ты делал это нарочно. Дастин Родс. О чем ты думал? Как мы могли бы глядеть в глаза культурным людям, представляя тебя как Дасти[59]Родса?
— Именно на это я и рассчитывал.
— Привет, Клодетта, — сказала Марти, которую хозяйка упорно не желала замечать.
— Дорогая, — повернулась к ней та, — пожалуйста, прояви свое хорошее влияние на мальчика и убеди его вернуться к имени, достойному взрослого человека.
Марти улыбнулась.
— Я люблю Дасти: и его имя, и самого мальчика.
— Мартина, — сказала Клодетта, — вот это настоящее человеческое имя.
— Мне нравится, когда меня называют Марти.
— Да, я знаю. Как неудачно. Ты подаешь не слишком хороший пример Шервуду.
— Дастину, — возразил Дасти.
— Только не в моем доме, — провозгласила Клодетта.
Каждый раз с тех самых пор, как он ушел отсюда, и независимо от того, сколько времени прошло с его предыдущего визита, мать приветствовала Дасти таким отчужденным образом. Не всегда речь шла о его имени, порой обсуждалась его одежда, свойственная только представителям низших слоев общества, или его неэлегантная стрижка, или же рассматривался вопрос о том, занялся ли он уже «настоящей» работой или все еще красит дома. Однажды она затеяла с ним диспут по поводу политического кризиса в Китае и продержала его в дверях не меньше пяти минут, которые Дасти показались часом. В конечном счете она всегда приглашала его внутрь, но он никогда не был до конца уверен, что она позволит ему переступить порог.
Однажды Скит пришел в чрезвычайное волнение, посмотрев кинофильм об ангелах с Николасом Кейджем в роли одного из крылатых. Суть фильма заключалась в том, что ангелам-хранителям не разрешено познать ни романтической любви, ни других сильных чувств; они должны оставаться строго рациональными существами, чтобы служить человечеству, не соединяясь с ними узами чрезмерной эмоциональной сопричастности. Для Скита это послужило объяснением всего поведения их матери: ее красоте могли позавидовать даже ангелы, но она могла быть холоднее, чем запотевший кувшин лимонада в разгар лета.
Наконец, вдоволь насладившись психологическим превосходством, полученным в результате беседы в дверях, Клодетта сделала шаг в сторону, без слова или жеста предложив гостям войти.
— Один сын появляется с э-э… гостем почти в полночь, другой с женой, и ни тот, ни другой даже и не думают предварительно позвонить. Я знаю, что оба посещали курсы хороших манер, но, очевидно, деньги были потрачены впустую.
Дасти решил, что, говоря об еще одном сыне, она имела в виду Младшего; тому было пятнадцать лет, и он жил здесь. Но когда они с Марти прошли мимо Клодетты, им навстречу по лестнице, чуть ли не кубарем, скатился Скит. Он казался более бледным, чем был при их последней встрече, еще сильнее исхудал, темные круги под глазами стали больше, но он был жив.
— Ух-ух-ух! — воскликнул Скит, обнимая Дасти, а затем повторил ту же речь, обнимая Марти.
— Но мы думали, что ты… — пробормотал ошеломленный Дасти.
— Нам сказали, что ты… — подхватила Марти.
Прежде чем кто-то из них смог закончить фразу, Скит вздернул свой пуловер и рубашку, заставив мать содрогнуться от отвращения, и продемонстрировал свой голый торс.
— Пулевые раны! — с удивлением и странной гордостью объявил он.
Его впалую грудь и тощий живот украшали четыре страшных синяка с уродливыми багрово-черными серединами и бледнеющим к краям ореолом.
Воспрянувший к жизни при виде Скита, но тем не менее донельзя озадаченный, Дасти переспросил:
— Пулевые раны?
— Ну, — поправился Скит, — это были бы пулевые раны, если бы я и Пустяк…