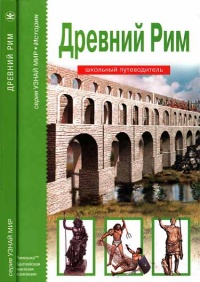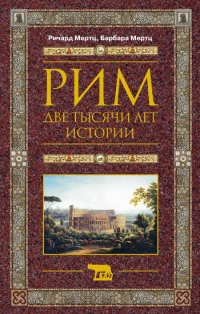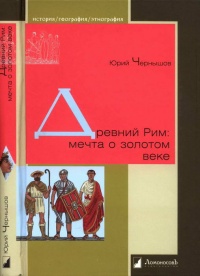Книга Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда - Игорь Чубаров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сложности, разумеется, остаются. Так, недостаточно ясно, как взаимодействуют негативный и позитивный миметические каналы в историческом времени. А объяснять искусство только из чувственного недостатка на самом деле столь же сложно, как из совершенных способностей индивида, его гения или таланта. Но более-менее ясно, что одним из фундаментальных источников искусства выступает социальное насилие или, точнее, импульс избавления от него. В этом плане история искусства похожа на историю политической борьбы, которой движет преимущественно желание людей избавиться от тяжелых природных и социальных условий жизни. Проблема состоит в том, что господствующие классы перманентно перехватывают и перекраивают на свой лад коды этого желания. Опыт насилия принципиально разделяет тех, кто его претерпевает, от тех, кто его только наблюдает и тем более причиняет.
В дореволюционной России дать адекватный язык опыту насилия впервые смогли разночинцы, пробившиеся в конце концов в культурное поле и даже впервые вспахавшие его, создав русскую светскую культуру во второй половине XIX в. Например, литература Ф.М. Достоевского была не столько выражением, сколько организацией репрессивного опыта своей эпохи, той самой «записью на теле», которой и определяется искусство в его уникальной сущности. Упомянутая кафкианская запись здесь не более чем свернутый образ, совмещающий в себе практику письма и область его приложения – социальное тело человека как негативное единство его чувственных способностей. Но можно спросить: как эта запись переходит в литературу и вообще в искусство? Ибо сама по себе она, разумеется, ничем иным кроме репрессии не является? А причастность художника социально и телесно соответствующему опыту не является, как мы уже писали, достаточным условием ценности его произведений. Но, возможно, она является необходимым его условием? Причем необходима она не в каком-то позитивном смысле жизненного опыта как испытанного «на собственной шкуре» содержания. Подобное требование к художнику отвергалось еще русскими формалистами: чтобы написать «Холстомера», Льву Толстому совсем не обязательно было становиться лошадью. Но ведь и к приему остранения материала как его оформления все не сводится. Ибо требуется еще объяснить, откуда берется эта остраняющая материал форма и чем обусловлен используемый автором прием.
Тому же графу Толстому, сумевшему войти в шкуру лошади, при всем его интересе к проблематике насилия и негодующем его осуждении, никогда не удавалось, подобно Достоевскому, проникнуть в тело пешеходов «зеленой улицы», чтобы чувственно-телесно, а не спекулятивно-моралистически выразить особенности национального прогона сквозь строй.
В.А. Подорога отмечает, что в русской реалистической литературе толстовской традиции мы найдем множество образов и свидетельств насилия, не искорененного и в пореформенной России. Но только Достоевский сделал насилие способом, каким реальность вообще может быть представлена. Только у него стала очевидна событийность насилия как стихии и субстрата русского быта. Мимесис-подражание в отношении насилия носит у Достоевского, в отличие от Толстого, совершенно иной, имманентный характер. Можно сказать, что если Толстой подражает насилию извне, описательно, только изображая его, то Достоевский подражает ему на уровне самого своего тела, имманентного антропологического опыта, перенося его формы на структуру художественного произведения. Герои «Записок из мертвого дома» живут этим насилием, рассматривая и оценивая через него все прочие явления жизни. Поэтому и никакого морализаторства по поводу телесных наказаний у Достоевского не встретишь. Даже описания самых отъявленных палачей в этом смысле, скорее, нейтральны, а их оценка жертвами не является осуждающей с позиции какого-то правового или морального идеала.
Подорога считает, что невосполнимый разрыв между двумя отмеченными ветвями русской литературы обусловлен принятыми в них начальными образами тела, выражающими различный телесный опыт «поротого» и «непоротого», «господского» и «униженного-оскорбленного». Тела Толстого в этом смысле завершены и незатронуты в феноменальном плане, это поистине «полные тела». Напротив, частичные, раздробленные тела Достоевского собираются в столь же частичные образы боли и муки, представляя проблему насилия в совершенно ином свете.
В. Подорога пишет о Достоевском: «Литература Достоевского – одно из наиболее выразительных свидетельств опыта подавленного, оттесненного и одинокого тела в общей картине тогдашних крепостных и пенитенциарных практик. Насилие казалось ему могущественным, сколь и отвратительным посредником между произволом имперской власти и послушанием в пореформенной имперской России. Как если бы можно было составить общую карательную карту отечественной литературы для двух литератур: одной – придворно-дворянской, «барской», и другой – разночинной, литературы по происхождению «холопской» (отчасти рожденной воображением и рессентиментной памятью бывших крепостных); одна – поротая, а другая – нет. Вот откуда разрыв между литературами, который ничем не восполнить, хотя бы потому, что их разъединяют начальные образы тела: одно – достаточное и полное, завершенное в своей физической и феноменальной проекции, тело незатронутое (тело, которого никогда не касалась ни розга, ни плеть, ни веревка); а другое – затронутое (тело униженное и оскорбленное, “обнаженное”, раздробленное на части, несобранное, слепленное из боли, подавленности и презрения). И один общий критерий, их различающий: телесное наказание… Для литературы Достоевского насилие – не предмет изображения, а способ, каким реальность может быть представлена. Литературная имманентность насилия очевидна, ее нельзя устранить, это стихия, если угодно, само вещество отраженного литературой исторического бытия. Насилие становится художественным приемом, самой литературой. Жить насилием и через него обращаться к бытию: быть-через-насилие»[68].
* * *
Никто, разумеется, не станет сегодня всерьез оспаривать величие Льва Толстого как писателя. Это было бы под силу разве что конгениальным ему художникам. Но из этого не следует, что мы не можем подвергать критическому анализу отдельные произведения, идеологические стратегии и политические взгляды классика. Было бы тем более странно отказывать современному исследователю в возможности ставить под сомнение сложившиеся стереотипы в оценках его творчества, особенно в сравнении с другими представителями «великой русской литературы».
Я исхожу из уже упомянутого различения у Подороги двух основных стволов развития русской литературы: придворно-дворянской литературы, идущей от Пушкина к Толстому и далее к Бунину и Набокову, и литературы разночинной («холопской»), идущей от Гоголя к Достоевскому и далее к А. Белому и А. Платонову. Надо сказать, что различение это не выступает в качестве какой-то объяснительной социологической модели, т. е. не им что-то объясняется, а оно должно быть объяснено из имманентной логики соответствующих художественных произведений, из присутствующих в них зрительных, сонорных, тактильных ориентаций и других антропологических составляющих литературного опыта. Таким образом, подход этот носит не идеологический характер, который был свойствен советской социологии искусства уже с 1920-х годов, а, скорее, антропологический. Но произведение не объясняется и не сводится и к набору антропологических и социологических клише, в которых невозможно выразить его уникальность. Оно может быть только описано в окрестности соответствующих «условий», которые, в свою очередь, именно в нем и проявляются. Другими словами, из самих произведений Толстого и Достоевского мы должны увидеть, что означает это «барство» или «рабство» в литературе, и фундированный ими «реализм», а не объяснять этими сверхдетерминированными, как бы заранее известными определениями соответствующие произведения. Но разве имеет какое-то значение для вопроса о реализме принадлежность Толстого к определенной социальной группе русского общества? Да, имеет, но не то, о котором вы могли (лениво) подумать.