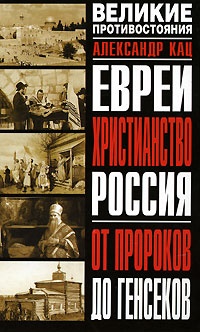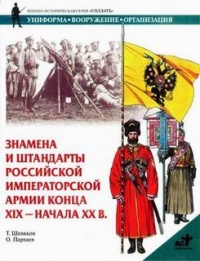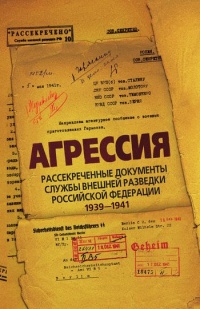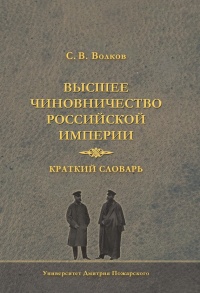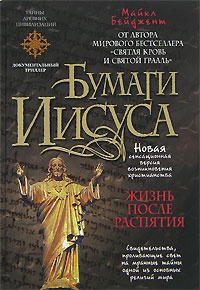Книга Автобиография Иисуса Христа - Олег Зоберн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Над кораблем поднимались, из круглых высоких башен, клубы дыма, заметные на фоне неба.
– Ноах! Ноах! Ламма савахфани?[23] Почему ты не забрал меня отсюда? Проклятие! Лучше бы вам всем сдохнуть! – крикнул я в отчаянии, понимая, что кричать бесполезно, и не понимая, что происходит. Почему качнулась, а не обрушилась вершина горы подо мной? Почему меня никто не заметил?
Я смотрел вслед кораблю. От него у меня осталось только семь новых букв, которые прибавились к трем буквам, составляющим латинское слово «солнце».
Корабль отплыл примерно на десять-пятнадцать стадий и остановился, повернувшись боком, похожий на прекрасно освещенную крепость, из которой немного под наклоном торчали испускающие дым башни, их было четыре. Корабль отплыл слишком далеко, я не мог разглядеть, что на нем происходит, однако в эту минуту почувствовал радость, решив, что мудрый Ноах догадался вернуться к вершине одинокой горы посреди моря и посмотреть, нет ли там кого-нибудь. Но прошло еще около часа, корабль по-прежнему стоял на месте, и я заметил, что он накренился, а большинство огней на нем погасло; затем он еще сильнее погрузился передней частью в воду и… погасли последние огни.
В смятении я догадался, что корабль был поврежден соприкосновением с горой и поэтому ушел на дно со всеми животными и людьми. Я даже слышал доносящиеся оттуда крики отчаяния, которые, сливаясь вместе, напоминали стрекот саранчи…
Вскоре погасли звезды наверху и внизу, и опять стало казаться, что ледяная глыба, приютившая меня, висит в небе. Но у меня было уже целых десять латинских букв. Немного подумав, я составил из них слово SCINTILLA[24], которое на мгновение вспыхнуло и снова распалось на элементы.
Я понимал, что корабль утонул, все умерли и ничего не осталось. Вся тяжесть мира легла на меня, единственного свидетеля катастрофы. Трясясь от холода, я собрался с духом и решил, что не погибну, ведь наступает новая эра и мне придется создать все заново. Больше некому. Средств для этого было мало, но достаточно: одиночество, холод, твердь льда, тьма и латинские буквы.
Аврелий
Когда я проснулся, в щели амбара светило солнце и поддувал ветер. Шуршали связки вяленой рыбы, подвешенной на перекладинах. Ночью было холодно, и кто-то заботливо укрыл меня шерстяным плащом, наверно Иуда. Я был один и подумал, что ученики, наверное, на рассвете разбрелись по городу чем-нибудь поживиться. Я дремал, пока не услышал, что меня кто-то зовет.
Я поднялся и вышел из амбара.
Поодаль, на берегу, окруженный своей скромной немногочисленной свитой, стоял префект Кафарнаума Аврелий. Не обращая внимания на эту делегацию, я подошел к воде, умылся, сел на большой камень и уставился вдаль, на молочно-зеленые воды Галилейского озера, которое всегда имеет такой цвет по утрам. Мне было приятнее смотреть на гребешки волн, чем на префекта, потому что волны были на своем месте, а римлянин Аврелий когда-то приехал в Галилею по службе и не считал эти края своим домом. Да и на местных жителей он смотрел свысока не только потому, что был официальным хозяином города, но и потому, что гордился своей кровью. Я видел на улицах Кафарнаума, как он общается с людьми. Аврелий запросто мог оскорбить какого-нибудь старика или пнуть работягу, а нищих и прокаженных он велел стражникам отгонять от города камнями, как собак.
Мне нравится слово «Галилея», в нем есть музыка. Если произнести его где-то в египетской пустыне, среди раскаленных красно-бурых скал, сразу увидишь, как прохладная волна озера отходит, обнажая разноцветные влажные камни. Тень пальм, зелень, белые крыши. Мне нравится слово «аллилуйя» – это самая короткая и красноречивая молитва на свете; слово «шадаим»[25] вдохновляет меня, сочетание его звуков – это статное тело гордой идумейки с длинными смоляными косами. Когда уже не было сил бежать от грохочущих колесниц и всадников фараона, всего лишь произнося такие слова, Иосиф и его дети обретали надежду – дул восточный ветер, и молниеносный гнев Божий испепелял египтян, как солому.
Аврелию было плевать на еврейское Предание, плевать на великий и сокровенный еврейский язык, ставший основанием, на котором держится перевернутая пирамида всего мира, и ему было плевать на меня. Вряд ли он принес мне благую весть, вряд ли пришел ко мне как равный к равному. Так почему я должен был радостно идти ему навстречу?
Оступаясь на каменистом берегу, префект приблизился ко мне.
Послышались возмущенные голоса:
– Вот гордец! Даже не встанет.
– Обнаглевший бродяга.
– Видать, мандрагоровых яблок объелся…
Могучая фигура префекта Аврелия в скомканной ветром белой тоге надвинулась на меня, как снежная глыба. Нас обступила его свита.
Я посмотрел на его мясистое лицо с длинным носом, похожим на клюв, и приготовился к тому, что меня наконец отправят в тюрьму, вспомнив или придумав для этого повод, и мне стало грустно от того, что еще так недавно жители Кафарнаума считали меня своим врачом и лучшим другом.
– Йесус, я не стал бы тратить время на то, чтобы идти к тебе, я просто гулял по берегу, чтобы проветриться, – сказал префект.
– Рад тебя видеть, добрый человек, – ответил я и улыбнулся.
Когда мне приходилось общаться с неприятным человеком, я всегда улыбался, и у меня получалось выглядеть искренне, потому что я в этот момент просто воображал что-нибудь смешное – какую-нибудь старую шутку. Или что мой собеседник – большой ребенок, которого надо успокоить.
По лицу Аврелия было заметно, что ночь он провел навеселе. Он был даже еще не вполне трезв.
– Люди волнуются, считают тебя преступником, – продолжал он.
– Кто эти люди? – уточнил я.
– Например, раввин синагоги Авдон, – префект ухмыльнулся. – Ладно, признаюсь, мне безразличны Авдон и его страхи, смешна вся ваша религия, но есть распоряжение, из которого следует, что я должен заключать в тюрьму и предавать суду тех, кто собирает вокруг себя толпы.
– Где же ты видишь толпу, Аврелий? – спросил я. – Я сижу тут один.
– Ты сидишь один, потому что твои подручные бродят по городу, и один из них, кажется, по имени Симон, попытался украсть курицу. Он уже наказан за это. Ты пришел сюда со своим сбродом, чтобы воровать? – Глаза префекта сверкнули. – Не получится. Хотите остаться в городе – работайте. Лишние руки нужны на мыловарне. Или будет худо.
На этом разговор закончился, и префект удалился.
Вскоре на берегу возле нашего амбара появился Симон, прихрамывая, с разбитым распухшим носом, и я подумал, что курицу надо было воровать Иуде, у него такие вещи получаются лучше. Да и воровство ли это в полном смысле? Я абсолютно уверен, что Симон пытался лишить курицы какого-нибудь толстосума, тем самым, может быть, подтолкнув его ко спасению. Разве можно спастись, если тебя ничего не огорчает? Никто из нас никогда не отнимал у человека последнее, никогда не обижал нищего или ребенка. Наоборот, когда у нас были деньги, мы всем помогали. А тут – какая-то жалкая курица. Да она сама добровольно пришла бы к нам, если бы имела ум.