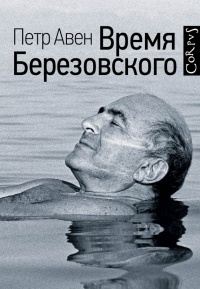Книга Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло - Валерий Подорога
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Ослепленный жаждой убийства всегда видел в жертве преследователя, к отчаянной самозащите от которого приходилось ему принуждать себя, а могущественнейшие государства даже самого слабого соседа воспринимали в качестве непереносимой угрозы, прежде чем обрушиться на него. Рационализация была уловкой, впрочем неизбежной. Избранный в качестве врага воспринимался как враг»[96].
Истинный палач, а это именно тот, кого мы имеем в виду, действует с такой чудовищной жестокостью, как если бы у него не было никаких человеческих качеств, т. е. как нечеловек. Нет ни совести, ни чувства «вины», ни колебаний в принятии решений, как палач он неуязвим. Неужели в случае тоталитарного вождя мы должны оставить в стороне вопрос о его личной ответственности? Понятно, что она налицо, но может ли она быть опознана самим палачом? Заметим, что палач, ставший из орудия высшей власти субъектом (действия), переходит черту: теперь он может казнить кого угодно и за что угодно, с той избирательной жестокостью насилия, которая ему доступна в данный момент. Беспредельная власть над жертвой превращает палача из «функции», слепого орудия «справедливого Закона» в Господина. В случае нацистских концлагерей мы встречаемся с этим особым отношением палача и жертвы на самых низших ступенях лагерной иерархии: всюду жертва оказывается под произволом палаческого уничтожения, в каждое мгновение своей краткой жизни[97].
В. Клемперер, специалист по романской филологии и автор труда «LTD. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога», пытается проследить зарождение единого нацистского телесного канона: «Марширующий впереди прижимал к бедру левую руку с растопыренными пальцами, мало того, ища равновесия, он наклонялся всем телом вперед, а правой рукой вонзал высоко в воздух тамбурмажорский жезл, до которого, казалось, дотягивался носок высоко вскинутого сапога. Вытянувшись по диагонали, он парил в пустоте, монумент без цоколя, чудом державшийся на судороге, стянувшей его от ног до головы. То, что он проделывал, было не просто шагистикой, это был и архаический танец, и церемониальный марш, а сам он сочетал в себе факира и гренадера. Похожую натянутость и судорожное выламывание можно было видеть в работах экспрессионистов, слышать в экспрессионистских стихах той эпохи, но в реальной жизни, в трезвом бытии трезвейшего города они поражали абсолютной новизной и заражали публику. Ревущая толпа теснилась вплотную к караулу, воздетые в диком порыве руки, казалось, хотят вцепиться в солдат, выпученные глаза молодого человека, стоявшего в первом ряду, горели религиозным экстазом. Тамбурмажор был моей первой встречей с национал-социализмом, и эта встреча меня потрясла. Национал-социализм казался мне тогда (несмотря на его повсеместное распространение) ничтожным и преходящим заблуждением безответственных людей, снедаемых недовольством. Здесь же я впервые столкнулся с фанатизмом — в его специфической — национал-социалистической форме; и впервые через зрелище этой бессловесной фигуры — в мое сознание вторгся язык Третьего рейха»[98]. Собственно, исследование словно по шаблону выстраивает логику этого символистского языка, который индивидуализирует и делает универсальным событие. Тогда наци-тело, с одной стороны, взвинченное, выламывающееся из собственных суставов, превосходящее себя; а с другой — способное в один миг собраться, аккумулировать в себе неимоверную мощь сокрушения благодаря воле вождя, ставшей волей народа. Собственно, танцующая в марше фигура и есть язык, а еще точнее, каждая из речей фюрера могла бы рассматриваться как такого рода экспрессионистский танец, который приводит в действие, регулярное и законченное, громадную военную машину, что управляет немецким народом как единой массой послушных солдат. Абсолютная власть удваивает, размещает в пространстве повседневной речи этот складывающийся причудливыми блоками фраз и слов, аббревиатур, неологизмов телесный язык. Этот язык ненависти открывался в отдельных новых словах и лозунгах, малых и мельчайших машинах смерти и угнетения[99]. Тело танцующего в марше наци передает силу этого триумфального коллективного тела, чья индивидуальная мощь полностью определяется единой формой — речью Вождя.