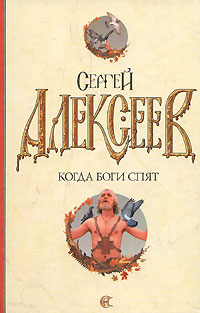Книга Долгая нота. (От Острова и к Острову) - Даниэль Орлов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ага.
— Инженером будешь, когда вырастешь?
— А инженеры на машинах ездят?
Андреич представил себе инженерскую зарплату и покачал головой.
— Ездят, но редко.
— Не. Не буду я инженером. Да там и учиться надо долго. Математика эта дурацкая. Вообще-то, я уже давно выбрал, ещё когда маленький был. Буду шофером, — Васька сделал ударение на первый
слог. — Они ого-го как заколачивают. И свисти не свисти, а деньги всегда будут.
Фельдшер в очередной раз поразился рассудительности парня в денежных вопросах. Ему подумалось, что, выбирая профессию врача, сам он о деньгах вовсе и не помышлял. Ещё в детстве до щекотки в носу нравился запах, который исходил от их участкового, когда тот совсем не больно и необидно, а так по-дружески щелкал Сергея по носу. Участковый снимал в прихожей шубу и в белом накрахмаленном халате проходил в комнату бабушки. Проходил мимо него, прижавшегося к кухонной двери, и щелкал по носу. И всё. Ничего больше. И уже мечта о таком же белом халате, о таком маленьком, словно детском, кожаном чемоданчике. «Дышите. Не дышите. Задержите дыхание. Покашляйте. Где болит? Принимать по столовой ложке перед едой. А эти таблетки после еды три раза в день», — это из бабушкиной комнаты доносится. И там спокойно всё. И всем в доме спокойно. Врачом он, впрочем, пока не стал. Стал фельдшером. Но здесь, на северах, между этими понятиями давно поставлен знак равенства. А практика, которую Андреич уже успел набрать на Острове, стоила и тех трех курсов первого медицинского в Ленинграде, что он закончил, и тех трёх, которые ещё остались на потом.
Учиться всегда успеется. Лечить надо, а то люди болеют.
— Андреич, а Этот будет долго с матерью в больнице? — Васька длинно сплюнул между широко разбежавшихся передних зубов и склонил голову набок.
— Три дня. А тебе зачем?
— Как зачем? Я, пока мать тут лежит, в Петрик к отцу смотаюсь.
— Мать всё равно узнает. Попадёт тебе.
— Не, ей не до этого будет. Попадёт, конечно, но скорее для порядка. Большого скандала она мне не закатит. И дома точно не запрёт. Кто ей для Этого продукты отсюда возить будет? Так что дело беспроигрышное. Если, конечно, не заложишь.
Фельдшер пообещал, что сохранит его планы в тайне, и ушел к себе заполнять медкарту. Оставшись один, Васька набрал воздуха в лёгкие и свистнул от души.
С первым своим мужем, отцом Васьки, Татьяна развелась уже давно. Развелась и вернулась обратно на Остров, не найдя повода и возможности остаться в городе. Петрозаводск ей не нравился. Когда выходила замуж за своего Лёнчика, про быт да работу особенно не думала. Мнилось ей, что после свадьбы всё должно у неё быть хорошо, или не хуже, чем у других. Лёнчик — красавец, даже заячья губа его не портила. Высшее образование — ленинградская «Макаровка». Дом, полный дефицита и заграничной красивости, нажитой в те времена, когда Лёнчик ходил в загранку. «Времена» оказались совсем короткими: всего-то пять рейсов (списали по состоянию здоровья), но и их хватило, чтобы дом казался респектабельным.
Познакомились они на Острове. Лёнчик завербовался на сезон в артель и среди остальной шатии выделялся особенной статью, за которой чувствовалась если и не белая кость, то уж точно какая-то трагическая история. История была. Не такая трагическая, но была. По неуравновешенности характера набил он как-то лицо парторгу в Роттердаме на глазах всего порта. Весь рейс тот придирался, а молодой третий помощник копил в себе брезгливое отвращение. Потому на справедливое замечание о «расхристанном внешнем виде в порту капиталистического государства» ответил Лёнчик серией профессиональных боксерских пассов, приправленных сочными матюгами. Поставил на чистый асфальт полные ливайсов и адидасов спортивные сумки и врезал. И слева врезал, и справа, и даже снизу, разбив парторгу нос, сломав челюсть в двух местах и повредив ухо. После чего поднял сумки, аккуратно сплюнул жвачку в урну и поднялся по трапу. Если бы не старпом, который уговорил капитана замять дело, договорился с врачом и уложил Лёнчика в изолятор с липовым диагнозом «психопатия», светило бы парню что-то очень нехорошее из меню, предлагаемого уголовным кодексом. Прямо с парохода отвезли Лёнчика в клинику на освидетельствование. Вбили диагноз в справку и отправили на ВТЭК получать третью группу инвалидности из-за проблем с головой. Из пароходства списали окончательно, но с хорошей характеристикой. Даже парторг уверовал в Лёнчикову болезнь, ибо какой человек в здравом рассудке, по трезвости и по собственной воле порушит себе карьеру? Парторг ходил по Мурманску с гипсовой повязкой, завязанной бантиком на макушке, и по поводу произошедшего сетовал, что, дескать, жаль ему парня. Хороший, мол, парень, перспективный, но слетел с катушек. Пусть теперь на берегу лечится. Лёнчик собрал манатки и уехал домой в Петрозаводск. Как раз освободилась дедова квартира. С работой Лёнчик решил особенно не спешить, благо деньги были, а бюллетень ему выписали аж на полгода. Но приятели уговорили завербоваться в артель на Соловки. Там они с Татьяной и сошлись.
За три года до того закончила она Архангельский техникум. Могла работать хоть бухгалтером, хоть в плановом отделе. В Ребалду, в артель, попала по распределению, да так и осталась. Нравилось ей простая и понятная жизнь поселка. Нравился Остров с его неспешной колготней. А в Петрозаводске её тяготила суета и общая никчемность существования. Не чувствовала она в городе того внутреннего смысла, что пульсировал, скажем, в Архангельске или Мурманске. И даже розовый родонитовый берег Онеги казался ей издёвкой, подменой другого — морского. Детство Татьяна провела в приюте небольшого поселка на Белом море. До этого детства было что-то ещё, но в памяти на его месте лишь громоздились цветные бесформенные облака, обрывки запахов, звуков.
Родителей Татьяна не помнила. Даже не знала, как их зовут. Когда повзрослела и стала что-то понимать, поняла и общую причину этого своего сиротства. В пятьдесят пятом ей исполнилось шестнадцать. Вместо метрики для техникума выдали справку о том, что Соловьева Татьяна Владимировна поступила в Кандалакшский детский дом четырнадцатого апреля сорок первого года в возрасте двух лет. День рождения — четырнадцатого апреля тридцать девятого. Место рождения — Кандалакша. Она и праздновала свой день рождения четырнадцатого. Лишь только после того, как получила справку, задумалась о том, что, может быть, она и не Татьяна вовсе.
Люди возвращались из лагерей. Трех её подружек по детскому дому отыскали отцы. Самую любимую — Ленку, ту с которой они сидели рядом в классе, забрал с собой высокий тощий человек с такими же, как у Ленки, огромными серыми глазами и длинными пальцами. Он вошел в класс во время урока химии вместе с директрисой. Из двадцати девочек сразу нашёл глазами Ленку. И та вскочила, хлопнула крышкой парты и бросилась, рыдая, к нему. Как поняла, что он — отец? Откуда? С таких же двух лет сиротою жила, ничего про родителей не знала.
Очень глубоко внутри сознания Татьяна надеялась, что и к ней вот так же однажды приедет некто. Обнимет, потреплет по светлым её волосам, прижмет к небритой сухой щеке. Почему-то именно эта небритая щека представлялась ей главным в родительском существе «отец». Или папа? Она никогда не говорила «мама» и «папа». Всегда «мать» и «отец». Обезличенно, вне эмоций, не от своего имени. Что-то непонятое, из жизни других людей, существующее как абстракции или свойства персонажей литературных произведений. Стоит ли печалиться и сожалеть о том, чего у тебя никогда не было? Татьяна не знала, что значит «хотеть к маме», никогда не испытывала этого иррационального чувства, или испытывала, но забыла. Было много взрослых, так или иначе принимавших участие в Татьяниной судьбе. Иногда авторитеты этих взрослых сталкивались в сознании девочки, заставляя выбирать между чужими правдами. Но рационально. Холодно. По-детски меркантильно. И только когда уехала Ленка, когда сдуло дегтярным перронным ветром с Татьяниной щеки щекотку Ленкиных волос, только тогда и появилось неоконченность, одиночество.