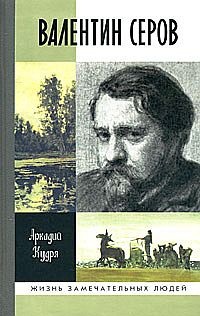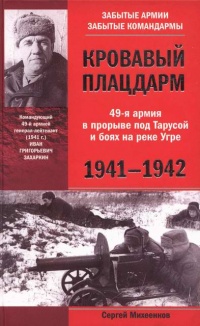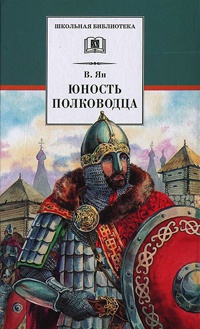Книга Кустодиев - Аркадий Кудря
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Однако сразу попасть в Семеновское не удается. В Кинешме Кустодиеву встречается знакомый помещик Александр Петрович Варфоломеев и уговаривает ехать с ним вместе (у него собственная упряжка) — погостить пару дней «на Николу» в его усадьбе Панькино. Окрестности там, мол, красивые, Для художника работа найдется. Вдвоем же, как известно, веселее. Словом, проведя день в полюбившейся ему Кинешме, Борис Михайлович выезжает с Варфоломеевым в Панькино.
Общение с костромским помещиком, занимавшимся заготовкой и продажей леса, довольно быстро вызвало у Бориса Михайловича желание написать его портрет. В Варфоломееве ярко выражал себя своеобразный деревенский тип, «смесь кулачества и феноменальной скупости с либеральными взглядами и глупости с мужицкой хитростью»[104] — так характеризовал его Кустодиев в письме к невесте. Да и внешне помещик был примечателен: добродушный, толстый, и все у него колышется, когда смеется.
Весной в Вене, рассуждает Кустодиев, должна состояться международная художественная выставка, а послать туда из новых работ нечего. А вдруг удастся ему этот портрет? Что ж, за дело.
Хозяин, проявив и понимание задачи, и терпение, позировал, стоя в валенках на снегу, во дворе своей усадьбы. Картина получалась любопытная — и по типажу, и по колориту — и, завершая ее, Борис Михайлович чувствовал, что без угрызений совести представит ее в Вене. Варфоломеева же за гостеприимство и терпение он отблагодарил небольшой пастелью — этюдом его скотного двора, чем помещик был вполне удовлетворен.
Добравшись до Семеновского, Кустодиев, как и в прошлый приезд сюда, останавливается у Мазиных. Зима в разгаре: мороз, снег, ветер.
Вскоре Кустодиев наведывается в Высоково, и это посещение вызывает у него всплеск разнообразных эмоций: «Мне так и думалось, что вот приеду — кто-то выйдет навстречу, но все было мертво — все умерли… Мне отворили дом, и я прошел по комнатам. Кучи мусора валяются на полу, шпалеры местами отстали… Три года тому назад мы впервые входили в эту залу — в ней так много было народу. В твоей комнате висят только занавески, валяются какие-то бумажки и больше ничего… Сколько милых и дорогих воспоминаний на всю жизнь останется об этих местах! Милая, дорогая Юля, ведь это не все умерло, пока мы живы — ведь это все мы будем помнить и любить…
…И вот здесь, последний раз в усадьбе, где мы дали друг другу слово, я даю слово любить тебя всегда и всегда быть тебе благодарным за твою любовь. Этой усадьбе — Юлии Петровне и М. П. я обязан своим счастьем, и память о ней мне так же дорога, как и тебе…»[105]
Очередное письмо в Петербург уходит как раз под Рождество, и Борис Михайлович, шутливо упомянув, что «рождественский номер всегда полагается с картинками», сопровождает его тремя рисунками — «Утро», «Полдень» и «Вечер», иллюстрирующими его обычное времяпровождение. На первом герой рассказа дрыхнет под одеялом. Возле кровати — валенки, а на стене красуется несколько этюдов из деревенской жизни.
На втором бородатый человек с ящиком красок в одной руке и этюдником в другой топает в валенках по деревенской улице. На третьем он лихо катается по льду на коньках. За ним, кутаясь в полушубки, недоуменно наблюдают двое местных жителей. За рекой, на горе, видна деревенька.
«Сейчас славно накатался на коньках, — пишет он в том же письме, — на катке никого не было, ночь светлая, лунная, так красиво, и тихо, тихо, на горе только кой-где в избах огоньки, да откуда-то слышится пенье, — это мальчишки ходят с колядками из двора во двор, поют под окнами, стучат в ворота. Чудная ночь! Ночь под Рождество.
Писал сегодня два этюда, один очень интересный, пейзаж пастелью, деревенька в снегу…»[106]
Восьмого января 1903 года Борис Кустодиев вступил в брак с Юлией Прошинской, о чем сохранился следующий документ. На обороте выписки из метрической книги Астраханской градской Христорождественской церкви, где был крещен Борис и отпевали его отца, записано: «Означенный в сем Борис Михайлович Кустодиев сего 1903 года января 8 дня вступил в первый законный брак с дочерью надворного советника Юлиею Евстафьевной Прошинской, 22 лет, римско-католического вероисповедания, в чем причт церкви при Гимназии Императорского Человеколюбивого общества и свидетельствует с приложением церковной печати»[107].
На свадьбе из друзей Кустодиева присутствовали его соученик по мастерской Репина Максим Хейлик и Дмитрий Стеллецкий.
В письме И. С. Куликову, сообщая об этом событии и выразив сожаление, что приятель не смог присутствовать на торжестве, Борис Михайлович пишет: «Картину [Репин] показывал государю, очень понравилась, он все жал ему руку и желал счастливо окончить, и Илья, видимо, очень доволен впечатлением, которое она произвела на бывших на юбилее. Тебе можно не приезжать, Илья Еф[имович] говорит, что твоя работа кончена, а нам еще недели на три — конечно, эти три недели удвоятся, если не утроятся!»[108]
В этом письме уже заметно некоторое охлаждение между былыми друзьями, и, надо полагать, причина в том, что Куликову была слишком тягостна работа над большим полотном. Еще летом Борис Михайлович писал невесте: «Куликов работает меньше, потому что устает, а устает потому, что хворает, как он говорит»[109].
Кустодиев же написал практически всю правую сторону огромного полотна, выполнил 25 подготовительных этюдов.
Впрочем, сам И. Е. Репин вклад своих помощников в общее дело оценивал одинаково хорошо, и много лет спустя, в 1926 году, в письме К. И. Чуковскому подчеркивал значение этой работы для его учеников: «Куликов и Кустодиев — выросли на этой картине — сразу — в больших мастеров»[110].
То было время, пожалуй, наибольшего сближения между Репиным и Кустодиевым. На одном из портретов Репина, выполненном в 1902 году, Борис Михайлович делает дарственную надпись: «Другу учителю».
Правда, впоследствии, вспоминая годы учебы в академии, Борис Михайлович нередко сетовал на то, что преподаватели, не исключая и Репина, мало занимались с ними технической стороной живописи. Подобные же претензии к качеству обучения в академии высказывали и другие ее воспитанники. «В Академии, — писала А. П. Остроумова-Лебедева, — никто нас не учил “ремеслу” живописи, именно ремеслу. Мы ничего не знали ни о красках, которыми работали, ни о холсте, об их особенностях, свойствах, об их приготовлении; о мазке, о лессировке, о поверхности живописи, о тысяче вещей, которые обязан знать художник. Приход передвижников в Академию не принес нам этих знаний»[111].