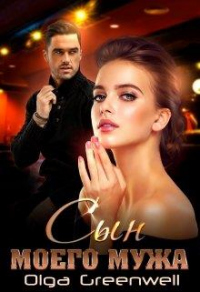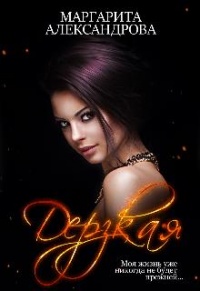Книга Права животных и порнография - Эрик Дж. Миллер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Интересно, думает она, знает он уже или нет о том, что она обнаружила, когда писала нынче утром.
Папа говорит:
– Какой тихий. Обычно его плач я слышу еще на дальней тропе, будто он зовет меня скорей домой.
Освежеванные тушки кроликов он сбрасывает с плеча и раскладывает на подоконнике, где дерево потемнело. Потом поворачивается к колыбели. Наклоняется и тянется рукой к Малышу. При этом его поза говорит ей, что в другой руке он что-то прячет.
– Ты загораживаешь от Малыша солнце.
Он выпрямляется, смотрит с вызовом, но потом опускает глаза и отходит от Малыша и от окна.
– Да уж солнца-то осталось… А почему он такой тихий?
– Может, выплакался. Скорей всего, завтра опять за свое возьмется; может, раньше.
Папа кивает.
Кролики, скользкие и подсыхающие на солнце, подобно их шкуркам, покрыты переплетениями красного, местами облеплены белым, а кое-где она на них замечает даже голубоватые какие-то полоски. В своем воображении она соединяет их – шкурка к тельцу, кровь к крови. Конечно, она понимает: то, что она видит перед собой, это мышцы, а мышцы это мясо, то есть еда, но тушки кроликов не похожи на то, что она могла бы съесть, она им и названия в уме не подберет, будто это – что-то не от мира сего, какая-то ошибка небес – нечто, от чего там поспешили избавиться, бросив сюда, в дольний мир.
– Ну что ты их вечно в дом тащишь. Только Малыша пугать. И шкурки тоже – все равно ведь утром вывесишь на дворе. Почему мы должны их всю ночь тут нюхать?
– Отчего ж не понюхать? Это запах жизни. Да и Малыша они вовсе не пугают. Он не настолько еще испорчен. Для него это просто предметы. Вот взял бы я, положил одного такого кролика к нему на одеяльце, Малыш посмотрел бы на него, потрогал, языком, может, лизнул. Стал бы его познавать.
Он вновь бросает на нее колючий взгляд, но затем поворачивается и кладет что-то в карман. Она знает, что это кроличья лапка. Папа все бормочет:
– На этот мир он еще чистыми глазами смотрит.
Идет к плите и трет над ней рукой руку, хотя видит, что огня в топке нет.
– Как ты себя сегодня чувствуешь?
– Сегодня получше.
– Сколько уже прошло-то – с тех пор, как ты скинула?
– Не знаю. Месяца два, наверное. Сегодня утром у меня впервые появилась кровь.
Услышав про кровь, он щурится, и у него в глазах она замечает голодный блеск. Он кивает и опять поворачивается к Малышу, кроликам и заходящему солнцу.
Иногда во сне она видит того, второго ребенка, потерянного два месяца назад, и всегда он толстенький, цвета бронзы, глаза зеленые-зеленые, локоны золотые и серьезный рот, а на лопатках – торчащие из-под кожи кончики крыльев. Скинутый был не таков, как тот, воображаемый, – какое-то уродливое изломанное создание, словно кто-то из ревности, от злости или по глупости в нее забрался и там замучил его, не дав развиться в цельное совершенное существо. Папа похоронил его не за домом, где могилы родителей, а где-то в лесу, и она не знала где, но была уверена, что со временем узнает. Он не оставил на том месте никакой таблички, потому что это не человек, человеком это никогда не было, и сказал ей, мол, не беспокойся, когда поправишься, мы сделаем другого, на этот раз как следует, и он будет в полном порядке, как этот наш Малыш.
Только ведь наш Малыш не совсем в порядке, подумала она тогда и частенько думает теперь.
– Уж не собираешься ли ты дать ему кроличью лапу?
Сунув руки в карманы, он пожимает плечами.
– Нет, я об этом и не думал. Хочешь, могу дать тебе.
– Мне не надо. Говорят, она приносит удачу, но для меня это пустой звук. Удача и благословение – разные вещи, а нам если что и нужно, так это благословение.
Она подходит к Малышу и видит красное пятнышко на его бледной впалой груди, словно вместо соска – рваная рана.
– Ты на Малыша кровью капнул.
– Так ведь он в крови в этот мир пришел. В крови, может быть, и уйдет. Он же не ангел, верно?
– Что значит не ангел? – Ей снова в голову приходит образ того, второго ребенка из ее сна. Прекрасная эта картинка вдруг взрывается слепящим золотом. Запнувшись, она делает шаг и только после этого снова начинает видеть Папу и обстановку комнаты.
Некоторое время он смотрит на нее и опять поворачивается к холодной плите. Она понимает, что передышка, которую он дал ей, когда она заболела после выкидыша, – это не навсегда; понимает также, что бережность, появившаяся в его отношении к ней, не продлится так долго, как хотелось бы.
– Так ведь никто здесь не ангел, – тихо произносит он. – Это я твердо знаю. Что, по-твоему, ангелы едят? Как живут? Не так, как мы. Нам такого не дано. Человек – это человек. Мальчишка. А перед тем ребенок. Вот наш Малыш и станет мальчишкой, а потом мужчиной вроде меня. А когда станет, вроде меня, мужчиной, наделает еще таких же, как он и как я, и как ты. И я не я, если хоть кто-нибудь из них родится не в крови и будет жить не в крови. И не в крови умрет.
– Вот разошелся, лучше молчи уж, да плиту, вон, давай растапливай.
– Придешь усталый, по пустошам болотным с утра набегавшись… А ты их приготовишь, если я плиту разожгу?
Вновь приступ дурноты. И чувство чуть не облегчения, точно это кружение вот-вот оторвет ее от земли и унесет в какую-то другую жизнь – лучше, чище, где нет крови…
Схватившись за колыбель, она вновь обретает равновесие.
Малыш открывает рот – то ли зевнул, то ли сердитую гримасу скорчил, – гулюканье у него вдруг переходит в отрыжку, и он изрыгает струйку беловатой жидкости, которая стекает по щеке. Он закрывает глаза и рот и поворачивает голову набок. Беловатая жидкость почти прозрачна и пахнет кислым.
Мать видит в ней какие-то куски, но куски чего, понять не может. Она не помнит, чтобы чем-нибудь его кормила. В этот момент она осознает, что вообще не может думать о том, чтобы когда-нибудь его кормить. Не может вспомнить, как его зовут, помимо клички «Малыш»; и сразу ее тоже забывает; не может вспомнить, как он был рожден, как был зачат. Она не может думать ни о чем, помимо того, что весь дом пропитан запахом убоины. И что солнце ушло.
Мой старикан за счет животных жил всю жизнь. Ловил капканами и разводил в подвале шиншиллу. Стрелял медведей ради их желчного пузыря, оленей и лосей ради рогов и Бог знает еще кого и ради чего. Устраивал бои, петушиные и собачьи, привязанных к дереву енотов заставлял драться с собаками и так далее. Держал в доме экзотических птиц, приобретая их сотнями, хотя выживала от силы дюжина, и трупы погибших мы с отцом сжигали, а тех, кто выжил, пытались содержать в чистоте. Потом кто-нибудь их покупал, отец получал деньги. Нескольких, полюбившихся, мать оставила жить в качестве домашних питомцев и научила их говорить, так что эти были на особом положении.