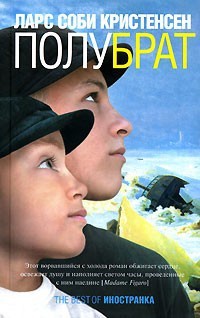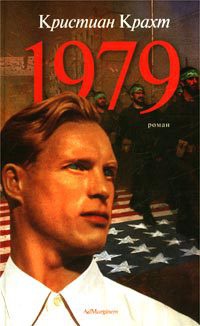Книга Цирк Кристенсена - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— На улице очень холодно? — спросила она.
— В общем, да.
Я поспешно снял шапку. Забыл ведь. И смотрел в пол.
— Прошу прощения.
Аврора Штерн засмеялась.
— Шапку здесь снимать не обязательно.
— Я принес цветы.
Я протянул ей квиток и шариковую ручку. А она так и стояла, со свечой в руке.
— Распакуй их для меня.
— Что?
— Ты слышал, что я сказала. Распакуй их.
Я сунул квиток и ручку в карман, развязал веревочку и бережно вынул из бумаги букет, семь гвоздик. И на этот раз тоже без карточки с запиской, без привета от кого-либо. С мокрой шелковой бумаги, какой были обернуты стебли, капала вода. Я не знал, что делать. Всю бумагу я побросал на пол.
В конце концов я спросил:
— Мне что, поставить их в вазу?
Она взглянула на меня поверх свечи:
— Тебе что больше нравится — тюльпаны или гвоздики?
— Тюльпаны, — сказал я и тотчас же пожалел об этих словах, а потому торопливо добавил: — Но гвоздики тоже красивые.
— Не можешь выбрать?
— Могу.
— Так что тебе больше нравится? Тюльпаны или гвоздики?
— Розы, — ответил я.
Аврора Штерн опять рассмеялась:
— Тебя толком не поймешь.
— А вам какие цветы нравятся больше всего?
Она удивленно посмотрела на меня. Я и сам был озадачен ничуть не меньше.
— Лотосы, — сказала она.
— Лотосы?
— Я люблю все цветы, какие получаю. Ну, неси их сюда.
Я не двинулся с места. Она подняла свечку, тень резко отступила от ее коротких волос, и я отчетливо увидел лицо, глаза, казавшиеся слишком большими, вероятно, оттого, что она привыкла сидеть в потемках, рот, похожий на небрежную красную черту, и белую кожу, или грим, доходящую до жемчужной нити, где начиналось черное платье.
— Идешь?
— Мне разуться?
— Не надо.
Я прошел в комнату и отдал ей цветы. А она бросила их в кресло, словно они ее больше не интересовали, словно были ей безразличны. Зря я сказал, что больше люблю розы. Ведь это неправда. Разносчик цветов должен говорить как можно меньше, только самое необходимое для правильной передачи цветов. Тюльпан, который я принес в прошлый раз, по-прежнему стоял в вазе, сухой, красный прах, мумия.
— Вы должны заполнить квиток, — сказал я, держа наготове ручку и сам квиток.
— Попить не хочешь?
— Попить?
— Ну да. Может, тебе хочется пить?
Но, прежде чем я ответил, а я бы, скорее всего, сказал «нет», хотя в глубине души хотел сказать «да», она отставила свечу на камин и ушла на кухню, думаю, что на кухню, по крайней мере, я услышал, как течет вода, как открылась дверца холодильника и басовито заурчал его мотор. Розы. Рододендрон. Аврора. Я выговаривал «р». Мог выговорить «р» два раза подряд. Аврора. Я сказал «р» тюльпану, и он исчез прямо у меня на глазах, развеялся по ветру в этой безветренной комнате, я не видел, куда он подевался. Свечка, к счастью, не погасла. Я заметил песочные часы, но в них был не песок, приглядевшись, я сообразил, что там опилки, песочные часы с опилками, во всяком случае, мне нравится думать, что в тех песочных часах были опилки. Меня окружали вещицы, безделушки, цацки, финтифлюшки. Я выпрямился, и на сей раз мне тотчас стукнуло в голову другое слово, я чувствовал его во рту, во всем теле как странную тяжесть, музей, вот какое слово стукнуло мне в голову, тяжелое как свинец, музей.
Аврора Штерн вернулась, дала мне бутылку сельтерской, и пузырьки, вереницей поднимавшиеся со дна, взрывались у меня в голове как мокрые звезды. Я залпом осушил всю бутылку.
— Не хочешь присесть? — Она сама себя перебила, покачала головой. — Нет, тебе наверняка надо идти дальше. Правда, мне кажется, я единственная, кому ты доставляешь нынче цветы.
Она написала на квитке свое имя, дату и час.
Я сел.
— Вас вправду зовут Аврора Штерн?
Она на миг смешалась.
— Почему ты спрашиваешь?
— Просто так. Извините.
— Незачем за все извиняться. Оставь эту дурную привычку.
— Извините.
Аврора Штерн тоже села, в глубокое кресло прямо напротив меня, ее колени почти касались моих, и я старался не смотреть на руки, сложенные на коленях, на черном платье, туго обтянувшем бедра.
— Это мое артистическое имя, — сказала она.
— А каким искусством вы занимаетесь?
Она наклонилась поближе. От нее-то и шел этот запах, вернее, аромат, ведь, как я уже говорил, он не был неприятным, — аптечно-парфюмерный.
— Мое искусство — цирк. А в цирке у всех артистические имена. Перон. Голиаф. Соло. Мундус. Ведь, став цирковым артистом, ты покидаешь свое прежнее «я» и должен получить новое имя. Меня называли Авророй Штерн.
— Здорово.
— Знаешь, что означает Аврора?
Я покачал головой.
Она положила руки мне на колени.
— Богиня утренней зари. Или мотылек. Как тебе больше нравится.
— Мне нравится и то и другое, — прошептал я.
Она снова откинулась на спинку кресла.
— Хочешь еще сельтерской?
— Нет, спасибо.
Она улыбнулась и некоторое время молчала.
Теперь я конечно же мог уйти. Имел полное право встать и покинуть Хакстхаузенс-гате, 17. Я свое дело сделал. Цветы лежали в кресле, рассыпавшийся букет гвоздик. Что она с ним сделает, меня не касается, пускай делает что заблагорассудится, раз квиток подписан чин чином — имя, дата, час.
— Прямо как в нашем доме, — сказал я.
Аврора Штерн посмотрела на меня в упор:
— Прямо как где?
— У нас там тоже масса артистических имен. Том Кёрлинг. Бутылочное Горло. Свистун. Правда, Свистун кончил свистеть. Его избили на Драмменсвейен. Теперь он пользуется обычным именем — Арвид Фло. А Бутылочное Горло мы чаще зовем Гундерсеном, прозвище больно длинное, сразу не выговоришь, поэтому оно как бы не в счет.
Я резко осекся, будто на миг услышал свой голос со стороны и рискнул сам себя оборвать, от смущения. Давненько я так много не говорил. Я же человек письменный, а не устный. Безмолвный и красноречивый. Обыкновенно я так не распинаюсь. Может, все дело в том, что в тот день я выговаривал «р».
Аврора Штерн отставила бутылку и опять наклонилась ко мне:
— А как насчет тебя? Какое у тебя артистическое имя?
— У меня его нет.