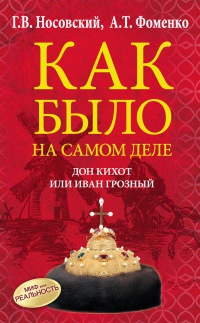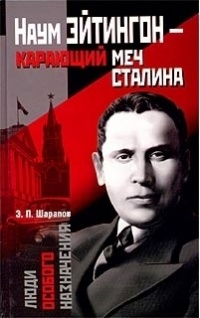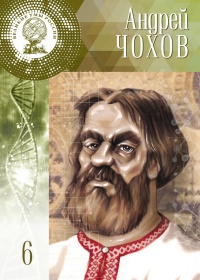Книга Испанский смычок - Андромеда Романо-Лакс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Его последняя соната посвящена виолончелистке! Попробую напеть ее, если получится. А теперь, — продолжил он, — поговорим о Рахманинове. Всего шесть лет назад он сочинил сонату, в которой виолончели действительно отводится главная роль. Ты не слышал его скерцо? Может, ты и о Рахманинове не слышал?
Хотел бы я ему сказать, что больше половины названных им имен композиторов я слышал впервые в жизни! Конечно, я промолчал. Хоть я и опасался, что Альберто окажется обманщиком, гораздо больше я боялся, что он посчитает обманщиком меня. Я ведь ничего не знал о репертуаре виолончели.
Но неуверенность в себе не сказалась на моем аппетите. Пока Альберто рассказывал, насвистывал и пел, мой желудок все громче и громче ворчал от голода. Наконец учитель сделал паузу и сказал рассеянно:
— Ах да, нам нужно чего-нибудь поесть, — так, словно ему понадобилось несколько дней, чтобы прийти к этому простому выводу.
За то время, что мы провели в доме Альберто, мама успела навести порядок на кухне, перемыть гору грязных тарелок и чашек с почерневшими донышками. В то утро сеньора Пачеко, пожилая соседка с первого этажа, принесла мясо и другие продукты, которые дважды в неделю покупала для Альберто, спасая его от необходимости выползать наружу. Но вместо того чтобы заняться приготовлением обеда, Альберто побрился, надел свежую рубашку без воротника и бесформенный пиджак и встал у порога. Прочистил горло и наконец сказал:
— Так что? Ты идешь?
Я не знал, что для него этот выход был очень важным событием. Зато знал, что он был важен для меня, так как я вот уже три дня не покидал дома Альберто. Оказалось, сам он не выходил из дому уже целых три недели. Внешний мир вызывал у него не то чтобы фобию, а меланхолию, как тогда называли подобное состояние.
Альберто привел меня в кафе за углом. Пятеро мужчин в шерстяных вязаных шапках и беретах, сидевших за окруженным зеркалами задним столом, поприветствовали моего наставника, похлопали меня по спине и заказали мне порцию анисовки в покрытом инеем стаканчике, обжигавшем пальцы. Разговор быстро перекинулся на политику. «Как всегда», — прокомментировал Альберто. Вдруг дородный темнокожий мужчина — его звали Сесар — сказал:
— Мы уж думали, твой учитель гниет где-нибудь в больничной палате, а то и в тюрьме. Похоже, ты его воскресил.
Я пожал плечами и улыбнулся.
— Так что, хочешь быть таким же, как твой учитель? Играть там, где он играл, не так ли?
— Я не знаю, где он играл, — снова пожал плечами я.
— Не знаешь, где он играл! — взревел худой мужчина по имени Рамон, из слишком короткого пиджака у которого торчали костлявые запястья и руки, покрытые шрамами.
— Два сапога — пара, — засмеялся Сесар. — Ученик, который не задает лишних вопросов, и маэстро, который не любит на них отвечать.
Мне и в голову не приходило задавать вопросы. Мальчик не спрашивает у взрослого удостоверение личности. Я пытался смотреть в сторону, чтобы не видеть пристальных взглядов смеющихся людей, но в окружении зеркал мне не удавалось избежать ни одного взгляда — даже своего собственного. Три варианта моего мальчишеского лица — круглые щеки, высокий лоб — смеялись надо мной со всех сторон.
— Когда ты родился? — спросил меня Рамон.
— Двадцать девятого декабря.
Рамона это развеселило. Продолжая смеяться, он закинул в рот пригоршню миндаля. Когда он жевал, я видел, как шевелились кости у него на виске и в темной ложбинке между челюстью и ухом.
— В каком году, пацан? — продолжал выпытывать он, отправив в рот очередную порцию орехов. — В девяносто четвертом? Девяносто пятом?
— В тысяча восемьсот девяносто втором, — ответил я.
— Это не он молод, это мы стары, — сказал Сесар, голос которого звучал дружелюбнее, чем у других. — Мы все еще спорим о том, что происходило до того, как он начал ходить.
Я посмотрел на Альберто, но его лицо было безмятежным и непроницаемым — блестящие глаза и мешки под ними.
Мы заказали bocadillos — бутерброды с омлетом с картошкой. Рамон купил мне еще порцию анисовки. Густая, сладкая жидкость легко скользнула внутрь, но уже через несколько минут у меня закружилась голова. Зеркальные отражения вокруг нас, на потолке, за нашим столом и за стойкой только усиливали головокружение.
Альберто заметил мое состояние.
— Пора отправить его домой. Утром занятия, — сказал он, хотя было всего-навсего полдень.
Мы все сидели за задним столом, так что к выходу пришлось пробираться с грохотом — шарканье ног, шум передвигаемых стульев и стола сливались в единый хор. Рамон уронил свою трость с рукоятью черного дерева, и, когда я нагнулся, чтобы поднять ее, наши лица встретились.
— Если хочешь учиться, сходи в Музей восковых фигур в трех кварталах отсюда. Там многое узнаешь о мире.
Сесар рассмеялся и добавил с презрительной усмешкой:
— В этом квартале каждый может тебя чему-нибудь научить.
По пути домой я спросил Альберто, что случилось с руками Рамона.
— Он был гобоистом до того, как обжег руки. Сейчас кожа на них так стянута, что он даже не может согнуть пальцы как следует.
— Какой ужас!
Альберто уловил нотку сочувствия, прозвучавшую в моем голосе:
— Не обращай внимания, в этом нет ничего такого, чего бы он не заслужил. У большинства из нас нет ничего такого, чего бы мы не заслужили.
По его тону я понял, что больше ни о чем спрашивать не стоит. Приблизительно через квартал он шлепнул меня по спине и сказал, как будто и не было никакого перерыва в разговоре:
— С годами мы все утрачиваем гибкость. Не только пальцев, но и отношения к жизни. Музыка — это легкая часть, Фелю. Все остальное — тяжелое.
В эту первую неделю я почти не видел маму. Если она не бегала по магазинам, тратя наши последние деньги на то, что было необходимо для занятий музыкой, то искала работу. И то и другое доставляло ей много хлопот и тревог: все здесь стоило слишком дорого, и ее первоначальный план — подрабатывать дома шитьем — пока не осуществился. Даже в первое воскресенье, когда почти все было закрыто, она рано ушла из дому, велев мне идти в церковь вместе с Альберто, а сама отправилась в противоположном направлении.
Альберто рассмеялся, когда я предложил ему вместе пойти к мессе. Он сказал, что не относится к числу тех, кто регулярно посещает церковь, и показал мне ближайший храм, куда я и двинулся один, выполняя мамино повеление. У меня не было желания заходить внутрь. Я бесцельно ходил вокруг храма, уголком глаза наблюдая за ребятами моего возраста, топающими в церковь. Один мальчик пел у входа в церковь. За тот час, что я наблюдал за ним, в его перевернутую шапку бросили дюжину монет. После того как он ушел, я поспешил на его место. Я никогда не пел дома, но, похоже, новый город заставляет по-новому взглянуть на собственные возможности, и я начал громко петь одну из итальянских песен, которую любил исполнять исчезнувший хор отца Базилио. У меня не было шапки, поэтому я снял ботинки и поставил их перед собой. Месса закончилась, люди стали выходить из церкви, и несколько монет упали в ботинок. Первый успех воодушевил меня, и я запел громче, исполняя все, что мог вспомнить из ночных песнопений Энрике. С приятным звоном на первые монеты упало еще несколько.