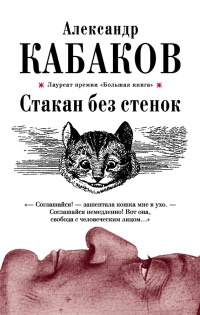Книга Страх - Олег Постнов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я не вполне уверен — я опять не вполне уверен, — но, кажется, это началось именно после смерти отца. «Портрет» Гоголя лишь повторил, усилив, романтическую традицию, однако я своими глазами видел иногда, проснувшись утром, что, так сказать, брызги моего сна, словно лужица от чашки кофе, оставались на миг наяву — и уже стремительно подсыхают. Бывало по-разному. То все еще шевелилась занавеска на двери (визит усопших); то рядом со мной постель была теплой и смятой (я обнимал во сне Тоню); то снова зеркало шалило со мной: мое отражение застревало в зеленой мгле, и, если быстро скосить глаза, можно было увидеть весьма странные вещи; то, наконец, в пору моих бесцельных блужданий по разгромленной трауром квартире зеленый сумрак выползал из углов, и я видел — опять-таки краем глаз, — как в нем корчились разные отцовские вещи.
Было бы ложью сказать, что я был равнодушен к этому. Холодный озноб, похожий на тот, что предвещает горячку, окатывал всякий раз меня — и вот теперь, уже студентом, я всерьез боялся любых простуд, не потому, что они вредят здоровью (глупая тавтология), но потому, что уже первый микроб опрокидывал меня в зеленый мир, или, по крайней мере, был способен туда меня отправить.
Тоня как-то была причастна к этому — я не сомневался; но как? Два или три раза я летал в Киев, хотя не искал ее, даже вовсе не делал попыток ее найти или увидеть. Днем я опять — и еще больше, чем прежде, — забывал ее. Она была безразлична мне, я несчетное число раз твердил себе это. И кроме того, говоря всю правду, я недолго оставался на высоте своих юных гордых принципов в отношении собственной чистоты. Разобравшись с метафизикой, я как-то сам собой перестал видеть в них смысл и потому легко преступал их. К концу университета все, что осталось от них, — привычка не продолжать случайные связи дальше тех границ, за которыми они могли быть опасны, то есть в самом деле как-нибудь связать меня. Но в них не было ничего такого, к чему я привык во сне. Или перед сном — чтобы быть точным. И вот эти-то ночные прелюдии во всем их бесстыдстве и разгуле, верно, и были, как думаю, главным звеном в цепи, конец которой терялся в зеленом мире, не желавшем отнюдь отпускать меня. Это была моя Тень — в значении Шамиссо или Юнга. И потому мне лишь стоило промочить ноги, чтобы она дала о себе знать.
Проглядывая написанное, я вижу, что этот пункт — отказ от добровольного, к тому же столь долгого, поста — следует объяснить подробней. Но странное дело: у меня не сохранилось от того времени никаких особенных чувств, ни воспоминаний, более того, вглядываясь назад, в ту смутную и не слишком счастливую мою жизнь, я нахожу себя не столько отдавшимся так называемым удовольствиям, которые, в общем, были, может быть, нужны и полезны на свой лад (об этом после), сколько тщетно пытающимся найти в себе внутреннее равновесие, чем дальше, тем больше ускользавшее тогда от меня. И с этим я ничего не мог поделать. Я вижу печальные одинокие свои вечера, у себя дома, в гостиной или же на кухне, по-прежнему с книгой в руках — словно я все тот же святой Фома, но без прежней радости чтения, — буквы плывут, наливаясь красным, и я уже не в силах отогнать дрёму, между тем сквозь нее прорывается вдруг сознание какой-то странной, будто бы уже окончательной, навсегда решенной кем-то и неизбежной для меня неустроенности в этом мире, причины которой мне не удается сыскать, тем более что ничто как будто не препятствует мне ни в моих делах, ни в планах. Наконец книга валится из рук; я направляюсь в спальню, находя слабое, но зато реальное, живое утешение в белизне моего постельного белья и в удобстве моей кровати, и иногда — эти случаи можно считать за счастье — мне удается тотчас уснуть… Так идет моя жизнь, не предвещая перемен, и я, верно, давно, даже, может быть, навсегда смирился в душе с нею.
Так мне виделась та пора. И действительно: так прошли годы. Я был верен себе сколько мог и настойчиво гнал прочь зеленые искусы. Как и прежде, я почти ни с кем не водил знакомств. Единственное исключение, заслуживающее упоминания, пожалуй, составляет мой бывший школьный, а теперь и университетский приятель, у которого я раза два бывал в доме и который в ответ раз-другой навестил меня. Фамилия его была Штейн. Он был швед по происхождению, даже, кажется, не из простых, но при этом полный профан как в геральдике, так и в гипербореях. Зато его французский был выше всяких похвал: обстоятельство, странно отразившееся на его русской речи, ибо по-русски он говорил с тем удивительно легким изяществом, которое утратилось в наш век, но в котором, поговорив с ним час, я невольно стал подозревать главную тайну русской классической литературы. Однако, если не считать этого, я никогда не встречал более нескладного и далекого во всем прочем от изящества человека. Он нависал над собеседником углом. Его лицо казалось дружеским шаржем на обоих его родителей. Он был, правда, исключительно чистоплотен, в том числе, как я понимал, и в интимных отношениях, так что, почитая себя уродцем, был застенчив до безумия и, понятно, одинок. В этом он составлял мне забавную противоположность, которая — как знать? — быть может, и определила то, что мы все-таки время от времени общались. Он, думаю, был бы для меня идеальным собеседником, когда б к его душевной чистоте, кристальной, как у увальня Гончарова, примешивался хоть на грамм цинизм доктора Вернера; но, конечно, этого не могло быть, и я вскоре уставал смотреть, как он краснеет, стоит мне прочитать свой новый перевод из Верлена, что-нибудь вроде «Я весь в мечтах о девичьих красах..». Он, конечно, и сам был их не чужд, но я (вероятно, довольно жестоко) предоставил ему самому парить средь этих туч на сбой лад, а сам остался в стороне. Мое одиночество, таким образом, и тут ничем не нарушалось. Порой я оставался и вовсе один. Мать чаще, чем прежде, ездила теперь в Киев. Она дольше гостила у деда и всякий раз привозила что-нибудь с собой: то старый глиняный сервиз, то иконку святого Пантелеймона (наследие прабабки), то опять какую-то утварь, знакомые с детства графины в решетках поверх стекла, словно мой лодочный фонарь с керосинкой, то медаль с Мицкевичем из дедовского кабинета, то, наконец, тарелку с Керчью. Ни мне, ни ей очень не нравились — по понятной причине — все эти подарки. Мне они не нравились еще потому, что разрушали детство: тот заповедник, который я совсем не хотел переносить в столицу и который здесь был даже враждебен мне. Я видел, что чужаки — все эти вещи — не приживались на наших полках, как-то с трудом устанавливались на них. Зато потом (как я заметил со страхом) как раз они охотней всего участвовали в моих тайных зеленых играх. И легко попадали в коллекцию моих снов, меняя там свой облик, словно личины из «Вия». Нет ничего удивительного поэтому в том, что наяву мой взгляд прилежно избегал их. Вообще с годами я выработал ряд ходов — что-то вроде профилактики, — которые позволяли мне прогонять Тень или хотя бы держаться подальше от нее. В конце концов, как известно, и время лечит. Но, правда, нужно сказать, я никогда, ни на одну минуту и ни за что не согласился бы признать, пусть даже в виде гипотезы, что история моей второй, призрачной, жизни есть всего только болезнь. Благо на этом никто и не настаивал.
В 1990 году я прибыл в Киев впервые в командировку (я только что поступил на работу в одно из тех мест, где по старинке еще интересовались английской литературой). Едва ступив на перрон — на сей раз я ехал поездом, — я понял, что меня ждет сюрприз. Город жил странной жизнью, которая вряд ли повторится в этом, да и в любом другом веке. Весь день казенная надобность кое-как удерживала меня в стороне (я отмечал командировочный лист, наносил визит приятелям моего начальства — седовласому археологу с подозрительно юной женой), но лишь смерклось, забежал к Ире бросить вещи и поспешил в центр.