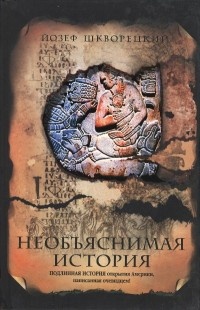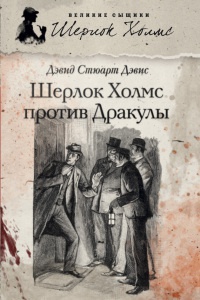Книга Львенок - Йозеф Шкворецкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— А какой вопрос вы мне задали?
— О вашем шефе.
— Своего шефа я с вами обсуждать отказываюсь. Если он вас так интересует, то могу познакомить. Он очень увлекается юными созидательницами социализма.
Мне это уже действительно осточертело.
— Вот возьму и поймаю вас на слове, — сказала барышня Серебряная.
— Буду рад услужить. С удовольствием погляжу на то, как вы опалите себе крылышки. Только считаю своим долгом предупредить, что девиц он меняет примерно раз в квартал. Внебрачных детей у него штук пятнадцать.
— Я сразу заметила, какой он сексапильный, — вздохнула Серебряная. — Меня к нему точно магнитом тянет, прямо сил нет сопротивляться. А с кем он встречался до своей первой жены?
— С госпожой Ганой Бенешовой,[16]— отозвался я. — Тайком, разумеется.
— Да нет, я серьезно!
— А если серьезно, то зачем вам это?
Официант принес водку, быстро обласкал взглядом барышню Серебряную и умчался заниматься менее приятными делами. Ленка немедленно взялась за рюмку, резко, точно изголодавшись, поднесла ее ко рту — и внезапно замерла и посмотрела на меня.
— За исполнение ваших желаний! — предложила она.
— А вам известны мои желания?
Она сделала таинственное лицо. Я обратил внимание, что на ее виске опять запульсировала манящая жилка.
— Думаю, что известны.
— И вы желаете мне, чтобы они исполнились?
Девушка молча, как-то нерешительно держала перед лицом прозрачную рюмку и пустыми глазами смотрела сквозь нее на Петршин, на кровавое, быстро темневшее небо над ним.
— Я добрый человек, — наконец сказала она. — Я желаю, чтобы все в вашей жизни удалось. Но поручиться, что так получится, я не могу.
— Не надо мне ручательств. — Я широко улыбнулся: ко мне вернулось хорошее настроение. — С меня хватит надежды.
Я поднял рюмку.
— Человека никто не может лишить надежды, — сказала барышня Серебряная, и мы чокнулись. — Вот только часто… очень часто… у него не остается ничего, кроме надежды.
Я собрался было ответить на это какой-нибудь двусмысленной сентенцией, но барышня Серебряная стремительно, по-матросски, выпила водку, и мне пришлось последовать ее примеру. А потом я спросил уже про другое — потому что мне показалось, что атаку стоит прервать как раз на таком вот неопределенно-приятном моменте:
— Но почему вас все же интересует мой шеф?
Она состроила мне глазки.
— Я же сказала: женское любопытство. Обожаю сплетни. А что поделывает ваша девушка? Куда, вы ей сказали, вы сегодня пошли?
— Вы обещали, что мы будем говорить о вас.
— Попозже, — отмахнулась барышня Серебряная и оглянулась на официанта.
Он мгновенно навис над нами черной тенью — даже звать не пришлось.
Гораздо позже она рассказала мне кое-что о себе, но — очень мало. Что с детства любила зверушек, что работала в Брно в каком-то биологическом НИИ — ухаживала за подопытными животными. А я и не догадывался, что за подопытными животными тоже кто-то ухаживает.
— Вы их кормили и…
— Я чистила клетки, проверяла их состояние здоровья и всякое такое, — объяснила она. — А еще я ассистировала ветеринару во время операций.
— Операций? Каких операций?
— В основном собаки и кошки. Но один раз мы оперировали волнистого попугайчика.
— Значит, такое еще бывает? — поразился я.
— А почему бы ему не бывать? — поразилась она.
Действительно, почему? Не знаю… Отчего-то в памяти у меня застряли собачьи санатории как один из важнейших признаков загнивания капитализма. Что там, мол, лечат от желудочных колик пинчеров, а безработные тем временем умирают от голода. Из чего следовало умозаключение, что любовь к пинчерам равнозначна нелюбви к трудящимся.
— А им… — забормотал я, отчего-то сбитый с толку тем обстоятельством, что барышня Серебряная никогда не ставила знака равенства между заботой о животных и реакционностью, — а им тоже дают наркоз, или их оперируют… ну… просто так?
— Что значит — просто так?! Ведь они же могут получить психологический шок и умереть. Нет, им дают наркоз, как и людям.
Я наконец опомнился и смог начать острить.
— Значит, они тоже считают до ста?
— Это было раньше, — отрезала барышня Серебряная. — Слушайте, господин редактор, вы на сто лет отстали от обезьян! Так давно никто не делает, даже у людей. Сейчас кошку суют в специальный ящик с застекленным окошком и пускают туда веселящий газ.
— Что-то вроде маленькой газовой камеры.
— Да, — согласилась она и помолчала. Солнечный диск успел уже спуститься по ступенькам смотровой башни и спрятаться за гору, а на небе его сменила гигантская луна. Она опять висела так низко над городом, что мне казалось, стоит только руку протянуть — и она у меня, и я ставлю ее на столик перед барышней Серебряной. Как же красиво, наверное, заблестят от такого соседства ее черные глаза! В общем, у меня появилось ощущение, что рядом с Серебряной мне под силу абсолютно все, и я как раз собрался достать луну с неба, когда Ленка внезапно передернула плечами.
— Вам холодно?
— Немного.
— Давайте закажем еще водки, а?
— Нет, хватит. Мы уже трижды заказывали. Пошли домой.
— К вам? Вы пригласите меня на чашку кофе?
Она покачала головой.
— Но вы же мне почти обещали!
— Кофе кончился. У меня дома нет больше кофе.
— Я зайду к вам и без кофе. Вы угостите меня водой.
— Можете меня проводить, — решилась она и приказала: — Расплатитесь!
Ах! За три водки да еще зеленый лимонад впридачу я достоин большего, чем позволение проводить. Но что такое цена пускай даже и целых ста водок в сравнении с возможностью просто идти рядом с барышней Серебряной по той залитой светом луны улице? Вы когда-нибудь переспите со мной, Ленка? Этот вопрос я задал ей про себя, и она ответила мне: «Позже». Что ж, позже так позже. Лишь бы хоть когда-нибудь.
Отогнав прочь обуревавшие меня на сей счет сомнения, я отправился вместе с барышней Серебряной в путь через темные парки, через Подоли, таинственными нусельскими тропами — в Панкрац.
И вот мы снова очутились на улице Девятнадцатого ноября, а я ни на метр не продвинулся в своей атаке на русалочьи бастионы. Правда, на нусельском склоне я сочинил очень приличную поэму в прозе, где воспевал длинные ноги Ленки, а также ее красивые глаза, губы и ушки, короче говоря, все те части тела, комплименты которым приличные девушки слушают обычно с удовольствием. Однако она никак не намекнула на то, что я могу добавить и строфу о других, более интимных особенностях ее анатомического строения. Слушала она внимательно, но когда я покончил со всем, что допускали границы моральных условностей, изрекла: