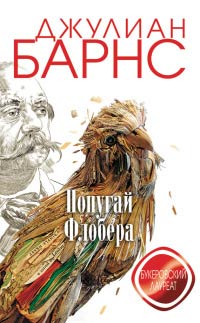Книга Дикобраз - Джулиан Барнс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Вы полагаете, они могли кого-то убрать?
– Да, конечно. Не так уж часто, насколько нам известно. И не очень многих.
– А с отпечатками пальцев, разумеется, как всегда дефицит?
– Так точно.
Солинский понимающе кивнул. Отчеты рассыпались в пыль. Отпечатки пальцев стерты. Тела давно отправлены в крематорий. В свое время каждый знал и понимал, что происходит. Но когда такие люди, как он, пытаются выстроить целую цепь обвинений против человека, заправлявшего всем механизмом в те времена, получается, что ничего подобного никогда не случалось, а если что и было, то было в порядке вещей, и потому почти простительно. Время свихнулось, но люди сговорились считать безумие нормой.
А поскольку каждый знал, что происходит, значит, каждый молчаливо поддерживал происходящее. Или это слишком уж изощренно? Приписывать вину каждому – это уже другой, более современный сговор. Нет, поди молчали главным образом из страха. Вполне объяснимого страха. И неотделимая часть его теперешней ежедневной работы, которую люди смотрят по телевидению, – помочь этим людям побороть страх, убедить их, что страх этот уже не вернется.
_______________
Стойо Петканов усмехался, садясь в «ЗИЛ», который подогнали для него к ступеням здания Народного суда. Он-то ездил на «мерседесе», по крайней мере в последние годы. Та «Чайка», которую они ему предоставляли до сих пор, тоже вполне годилась, только тормозила туговато. А вот сегодня под каким-то предлогом ему пригнали этот паршивый «ЗИЛ» образца шестидесятых. Ладно, этим его не возьмешь. Пусть хоть джип присылают – настроение у него от этого не станет хуже. Важно то, что происходит в суде. А там у него сегодня выдался удачный денек. Ну и погонял же он сегодня этого тощего лупоглазого интеллигентика, которого они напустили на него! Старая лиса заставила их сегодня поплясать под свою дудку.
Устраиваясь на непривычном сиденье «ЗИЛа», он стал делиться своими соображениями с охраной.
– Со старой лисой, – начал он, – дело обстоит так…
Резкий стальной выкрик трамвайных тормозов. Трамвай, идущий по бульвару, вдруг остановился. Остановился и «ЗИЛ». Ну что ты скажешь, все у них ломается. Даже автобусов водить не могут. Он вгляделся в толпу за расставленными кое-как барьерами. Что-то их уж слишком близко подпускают, подумал он; куда ближе, чем когда-то к его «мерседесу».
За самым ближним из барьеров Петканов увидел нескольких молодых хулиганов, грозивших ему кулаками. «Эх, вы, – молча отозвался он на их крики. – Это же я обул вас в эти самые ботинки, я построил больницу, где вас рожали, я построил вам школу, дал пенсию вашим папашам, я защитил страну от оккупации, а вы, засранцы, смеете грозить мне кулаками». Но они уже не только грозили. Они отодвинули барьеры, и несколько молодчиков бросились к машине. Дерьмо собачье. Дерьмо. Перевертыши. Прохиндеи. Так вот почему ему подсунули «ЗИЛ», они решили разделаться с ним прямо под открытым небом… Тут он уткнулся лицом вниз, прямо в потертый красный коврик на дне машины, а на него всем своим весом навалился милиционер. Затем затарахтели громовые металлические удары, и шершавый красный коврик больно мазнул его по лицу, когда «ЗИЛ» рванулся с места и полным ходом с визгом обогнул вагон трамвая. Так он и лежал, прижавшись к полу, пока машина не въехала во внутренний двор Министерства юстиции (бывшая Служба государственной безопасности).
– Ух ты, – произнес, распрямляясь, прикрывавший Петканова своим телом милиционер. – Дед-то наш никак обделался.
Он засмеялся, и водитель со вторым охранником захохотали тоже.
– Дерьмо у него в обеих штанинах, – прокомментировал водитель.
Они потешались над ним весь обратный путь до шестого этажа; специально вели его кружным путем, чтобы встретить как можно больше народу, и каждый раз придумывали новую фразу. «Дядя штанишки замарал», – говорили они. «Президенту на горшочек пора», – ржали во все горл о , довольные своим убогим остроумием. В конце концов они привели его в его комнату и оставили там приводить себя в порядок.
Спустя полчаса прибыл с извинением Солинский.
– Прошу простить за оплошность охраны.
– Да, растерялись они. В противном случае вы бы уже могли показывать мое тело американским журналистам.
Он представил себе эти лживые газетные заголовки. Вспомнил чету Чаушеску, их распластанные у стены тела. Выследили и расстреляли по-скорому после тайного судилища. Забей кол в вурдалака быстрей, быстрей. Тело Николае, которого он на многих встречах обнимал, – в нем нет теперь жизни. Воротничок все так же чист, галстук аккуратно повязан, и ироническая полуулыбка на губах, на тех губах, к которым он столько раз прикасался при ритуальных поцелуях в аэропорту. А глаза остались открытыми, вспомнил Стойо. Чаушеску мертв, его труп показывали по румынскому телевидению, а глаза у него все еще были открыты. Что ж, ни у кого там не хватило смелости закрыть их?
– Совсем не то, что вы подумали, – объяснял Солинский. – Просто мальчишки, которым хотелось побарабанить по крыше автомобиля. У них и оружия-то никакого не было.
– В следующий раз. В следующий раз вы им дадите.
И погрузился в молчание. Солинский уже прослышал о конфузе, приключившемся с бывшим президентом. Пожалуй, он впервые выглядит таким – съежившийся, жалкий, самый обыкновенный старик, сгорбившийся за столом перед полупустой банкой йогурта. И вдруг он заговорил.
– Они любили меня, – произнес он. – Мой народ меня любил.
Оставить без ответа эту реплику, думал Солинский. Но чего ради? Только потому, что тиран навалил в штаны? Я же Генеральный прокурор и таковым останусь при любых обстоятельствах, об этом нельзя забывать. И он произнес спокойно и уверенно:
– Они вас ненавидели. Ненавидели и боялись.
– Больно просто у тебя выходит, – тут же откликнулся Петканов. – Конечно, тебя это больше устраивает. Вот ты и врешь.
– Они ненавидели вас.
– Они говорили, что любят меня. Много раз говорили.
– Если встать над человеком с палкой, и велеть ему признаваться в любви к вам, и все время бить его и бить, рано или поздно он скажет все, что вы хотите услышать.
– Ничего подобного. Они любили меня, – повторил Петканов. – Они называли меня Отцом Народа. Я посвятил им всю свою жизнь, и они это знали.
– Это вы называли себя Отцом Народа, а лозунгами размахивали тайные агенты в штатском, вот и все. Вас ненавидели все.
Не обращая больше внимания на Солинского, бывший президент встал, подошел к своей кровати в углу комнаты и лег. И снова повторил себе, потолку, Солинскому, застывшему в дверях безмолвному охраннику:
– Они меня любили. Вот что вам как кость в горле. И никогда вы с этим не примиритесь. Запомни.
И закрыл глаза.
Лежа в кровати, он, казалось, снова обретал твердость и упрямство. Плоть была дряблой, в складках, но костяк проступал резко и отчетливо. Солинский хотел уже отвести взгляд, как вдруг заметил стоявшую под низкой кроватью глиняную плошку, из которой тянулись по полу зеленые побеги. Значит, слухи не врут – Стойо Петканов и в самом деле ставит дикую герань под кровать, суеверно воображая, что это принесет ему крепкое здоровье и долголетие. Всего лишь вздорная причуда диктатора, но сейчас она испугала прокурора. Крепкое здоровье и долгая жизнь. Петканов любит хвастаться, что и отец его и дед дожили до ста лет. Этак и он протянет еще четверть века? Перед глазами Петра вдруг возникла картина будущей реабилитации президента. Он представил себе телесериал «Стойо Петканов. Моя жизнь и мое время» с девяностолетним звездой в главной роли. И себя, изображенным в этом сериале последним подлецом.