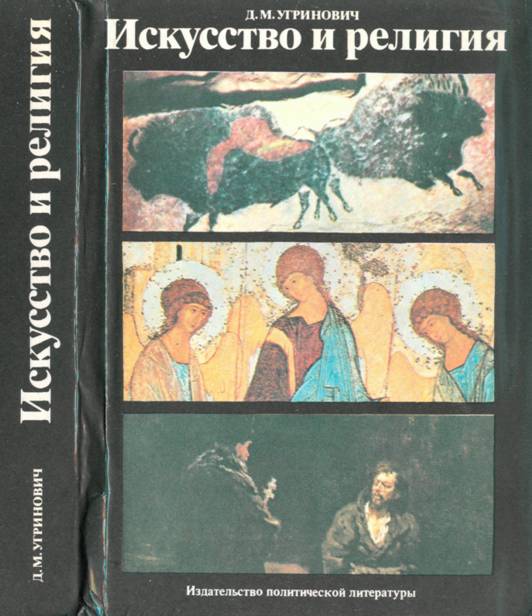Книга …В борьбе за советскую лингвистику: Очерк – Антология - Владимир Николаевич Базылев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Между ушедшим поколением и поколением В.Н. Топорова, Вяч.Вс. Иванова, С.Г. Бочарова и Н.Я. Эйдельмана образовался провал.
Конечно, сейчас многие могут думать: „Как? 1970 год – ведь это же расцвет структурализма…“ Да, но все-таки это были внутренние научные процессы. А в стране, помимо города Тарту, шли так или иначе многочисленные конференции, в них хотели и могли участвовать талантливые студенты и аспиранты, и кто-то должен был возглавлять, формировать эти конференции, опираясь на поддержку академиков. Выходили академические издания, и в их редколлегиях должны были быть люди науки с известными именами; нужно было на кого-то опираться в вечных хлопотах перед властью.
Так и продолжалось до 1969 – 1971 годов. Потери тех лет понизили уровень научной гуманитарной жизни страны. Вся академическая жизнь оказалась в руках безнадежного и во многом разрушительного в своих действиях поколения. Е.М. Мелетинский и Ю.М. Лотман, из поколения конца 1910-х годов рождения, были единичными явлениями – потому, возможно, что именно многие их сверстники погибли в лагерях и были выбиты на войне; они возвышались как потрясающие монолиты, авторитетные для нас всех и не имевшие никаких „рычагов“ воздействия на официоз.
Надо было, чтобы поколение 1929 – 1930 годов рождения заняло опустевшее место. Но нормальным путем это не получилось. Известны истории с докторскими защитами Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова. Чем выше была их профессиональная и общественная репутация, тем ниже она была в глазах официоза. Советская академическая среда – в университетах, в научных институтах, т.е. обучение студентов, важнейшие научные издания, – была в эти годы далека от них (хотя Топоров и Иванов последовательно возглавляли свой сектор в Институте славяноведения, но это был все-таки остров). Их место в научной гуманитарной жизни первой половины 1970-х годов было в чем-то близко к месту человека из „обвалившегося“ поколения – М.М. Бахтина (1895 – 1975): он писал, печатался, к нему ходили паломники, но советский официоз старался не замечать его существования.
Когда поколение 1929 – 1931 годов рождения набрало силу и составило свою среду – высокой эрудиции, широчайшего диапазона, масштаба, открытости, публичности (в отношении двух последних качеств – за исключением В.Н. Топорова, по его личным особенностям, которые искупались совершенно самой его неустанной работой, заменявшей собой работу целого института), то за ним уже совершенно по-другому, совсем в других условиях формировалось поколение 1934 – 1938 годов рождения (Гаспарова – Аверинцева).
Старшее из этих двух поколений доучивалось (уже по окончании университета), а второе – училось уже в послесталинской стране. Источники гуманитарного знания были гораздо более доступны, чем в 1930 – 1940-е годы. С начала 1960-х годов набиравший силу московско-тартуский структурализм расширял представление о материале изучения и давал пищу для методологической рефлексии. Оба поколения дали ученых первого ряда. В постсоветские годы они быстро заняли те самые места в академической жизни, которые и должны были занимать в „нормальном“ обществе» [166, с. 44 – 57].
Действительно, материал и методологическая рефлексия были. Был, например, Г.П. Щедровицкий – советский философ и методолог, общественный и культурный деятель, создатель системомыследеятельностной методологии, основатель Московского методологического кружка, идейный вдохновитель «методологического движения». При жизни опубликовано лишь его две брошюры, две коллективных монографии с его участием и порядка полутора сотен отдельных статей, написанных им в одиночку или в соавторстве. Тираж сборника «Проблемы исследования систем и структур» (1965) арестован, набор монографии «Педагогика и логика» (1968) рассыпан [115, с. 66 – 69].
Были и другие «школы», по выражению К.Г. Красухина, «не попавшие в струю»:
«Я долго думал, как можно назвать школу, о которой пойдёт речь в моих заметках. Термин „маргинальная“ здесь никак не подходит: это слово в русском языке имеет отрицательный смысловой оттенок, с ним связано представление о дикости, ненормальности и т.д. Не годится и эпитет „периферийная“: так можно назвать отсталую школу, изучающую мелкие и второстепенные научные вопросы. Всё это никак не применимо к выдающемуся профессору МГУ Олегу Сергеевичу Широкову, чьи лекции становились событием для всех, слушавших их. Но факт остаётся фактом: о школе Широкова вспоминают гораздо реже, чем, к примеру, о школе ОСИПЛа <…>
Ко времени приезда О.С. Буковина только десять лет была частью Советского Союза; молодой учёный застал преподавателей, которые при румынских властях ездили на стажировку за границу. Один доцент в конце 20-х гг. учился в Париже у самого Антуана Мейе (как и учитель О.С. – М.Н. Петерсон). Наличие таких людей создавало определённую культурную атмосферу в институте. К сожалению, она начала разрушаться из-за совсем иных веяний – провинциальная партократия насаждала свой дух. Одним из самых блестящих студентов О.С. в Черновцах был Валерий Чекман (1937 – 2001), успешно усваивавший теорию языкознания, славянскую филологию, балтийские языки. Против него было на пустом месте раздуто персональное дело; в местной газете появилась статья с грозным названием: „Це буде наукою“ – об ужасно растленном студенте пединститута, не соответствующем идеалам советской молодёжи. В.Н. Чекман отчислен за „неуспеваемость и аморальное поведение“. По рекомендации О.С. он приехал в Ростов-на-Дону (с почётными грамотами за отличную учёбу и активную общественную работу) к выдающемуся лингвисту А.Н. Савченко, и защитил у него диплом. Затем Чекман учился в аспирантуре в Минске,