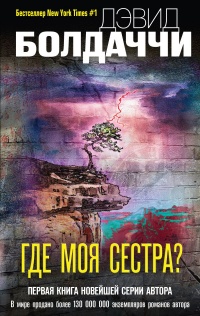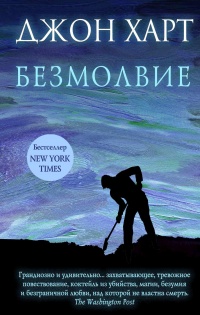Книга Заговор по-венециански - Джон Трейс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ну, кое-какую чепуху пролистал.
— Но-но! Статьи о путешествиях — не чепуха! Я этим на жизнь зарабатываю.
— Прости, забыл. Но ты все равно расскажи что-нибудь, устрой мне ликбез.
— Так и быть. Венеция — второе мое любимое место после Рима. Серениссима[14]столько всего дала миру: Марко Поло, Каналетто, Казанова, Вивальди, Рыжий священник… — Тина смеется. — Знаменитых венецианцев перечислять можно до бесконечности! Это место подарило нам такие прекрасные слова, как «мандолина», «чао!», или страшные вроде «гетто» и «арсенал». Однако больше всего Венеция нравится мне за то, что время здесь остановилось. По улицам не ездят машины, над головой не нависают провода, и нигде не видно мрачных вышек сотовой связи. Будто ныряешь в прошлое на парочку сотен лет.
— Ну, тогда за путешествия во времени, — поднимает Том бокал с соком.
— За них.
Они чокаются, и Тина, пригубив напиток, спрашивает:
— Ты помнишь что-нибудь из прочитанной чепухи?
Том на время задумывается.
— Кое-что. В самом начале здесь были только вода, топи, простые рыбацкие бухточки и всякое такое прочее. Затем, в середине первого века, пришел старик Аттила, привел своих гуннов, и люди, следуя за ним, расселились по окрестным островам.
— Сколько всего островов? — спрашивает Тина тоном школьного учителя.
— Много.
— Около ста восемнадцати, — смеется Тина. — Или ста двадцати. Сами венецианцы точнее не скажут.
— Я же говорю, много.
— Главным поселением стал Торчелло. Сама Венеция из себя ничего не представляла в плане политики, пока в Торчелло не разразилась эпидемия малярии. Люди тогда перебрались на Риальто.
— В седьмом веке?
— В восьмом. Венецианцы назначили первого дожа — это своеобразный квазирелигиозный лидер, избираемый на демократической основе. Итак, примерно в семьсот двадцатом году образовалось местное венецианское правительство. Система исправно работала, пока не началась большая эпидемия чумы, которая и подкосила ее. Венецианцы резко ударились в религию, а после, как истинные итальянцы, пустились во все тяжкие. Потакали своей похоти и заодно развивали искусство. Позже, в восемнадцатом веке, бесконечным оргиям — очень нетактично — положил конец Наполеон.
— Поразительно. И тебе не надоедает писать о путешествиях? Ты могла бы работать гидом.
— Спасибо. — Тина промокает губы салфеткой. — Предлагаю полностью сменить тему. Ты извини, конечно, если задеваю твои чувства, однако вкуса в одежде у тебя нет совершенно.
Рассмеявшись, Том поднимает руки: сдаюсь, мол.
— Меа culpa![15]Мне нет оправданий. Я мог бы сказать, будто мой чемодан потерялся по прилету сюда — и это правда, — но в нем не было ничего, что подсказало бы тебе мои симпатии в мире моды.
— Тебе совершенно безразлично, что ты носишь?
— Нет, конечно. Мне нравится выбирать себе одежду: удобную, чтобы хорошо сидела. Нравится, когда белье на мне чистое, когда носится долго. Просто я стараюсь на одежде не заморачиваться.
— Бог мой! Да ты язычник! Нельзя приезжать в Италию, если живешь по таким убеждениям. Тебя за такое из страны выслать мало!
Оба смеются. Смеются легко и беззаботно, ощущая большую близость.
— В общем, так. Я намерена обратить тебя в истинную веру. Позабочусь, чтобы ты осознал ошибочность своих прежних взглядов.
— На пять сотен евро такое устроить можно? Именно в пределах этой суммы я и могу позволить себе экипироваться.
Положив руку на подбородок, Тина изображает на лице задумчивость и серьезность.
— Гм… дай подумать. На пять сотен можно купить тебе хороший галстук «Версаче» или «Гермес». Я даже вижу тебя в нем, но и только. Однако это не дело, если собираешься покидать пределы моей спальни.
В разговор вмешивается человек сурового вида, в черном костюме, при галстуке.
— Buongiorno. Scusi, signorina. — Мужчина переводит взгляд на гостя Тины. — Синьор, вы Том Шэман?
— Да, это я. А что?
Портье оглядывается на дверь.
— Синьор, на рецепции вас ожидают два карабинера. Желают поговорить с вами.
Хижина Латурзы, Атманта
Тевкр приходит в себя. Он лежит на простеньком ложе, устроенном на полу, — где именно, понять невозможно. Лицом чувствует тепло очага, но при этом ничего не видит. Каждая пора на лице сочится болью, словно живые раны натерли крапивой. Постепенно до Тевкра доходит мерзкий запах припарки, наложенной на глаза.
Мир сжимается, начинает давить.
Тевкр в ужасе и ничего не может с собой поделать. Но понемногу из давящей темноты начинают всплывать осколки воспоминаний: жертвенный огонь, символ, вычерченный в глине, странные змеи и прочие фигуры, которые сам Тевкр и вырезал на земле ритуальным ножом.
Откровение.
А после — огонь. Ревущее пламя, распаленное во имя богов, в которое бросился прорицатель.
Тевкр напуган собственной памятью.
— Тетия! — зовет он. — Тетия, ты здесь?
Жена забилась в дальний угол, накрывшись овечьими шкурами. Она еще не отошла от пережитого. Любимый муж, не понимая, что творит, душил ее! Как быть? Ответить на призыв Тетия не решается. Она кладет руки на живот, словно стараясь оградить ребенка от Тевкра. Может, авгур хотел убить их по собственной воле?
— Тетия!
Или же ярость, с какой Тевкр набросился на нее, родилась из лихорадки, в которой он борется за свою жизнь? Ведь Тевкр Тетию ни разу не обижал.
— Тетия! Где ты?
И тогда она отбрасывает шкуры — вместе со страхами — и идет навстречу ему.
— Я здесь. Погоди.
Тевкр раскрывает объятия. Тетия нежно прикасается к его пальцам.
— Подожди. Я сейчас. Принесу тебе пить.
Но муж резко хватает ее за руку.
— Нет! Не уходи. Я должен тебе кое-что рассказать.
Тетии с трудом удается не поддаться нахлынувшему ужасу. Тевкр сильно переменился. Может, даже сошел с ума. И скорее всего, никогда не прозреет.
Почуяв страх супружницы, Тевкр еще крепче сжимает ей руку.
— Тетия, нужна твоя помощь. Сотри знаки, которые я вычертил.
Тетия вздрагивает.
— Те самые? У костра, в роще?
— Именно. Ступай прямо сейчас. На знаки не гляди. Сотри их, чтобы и следа не осталось.