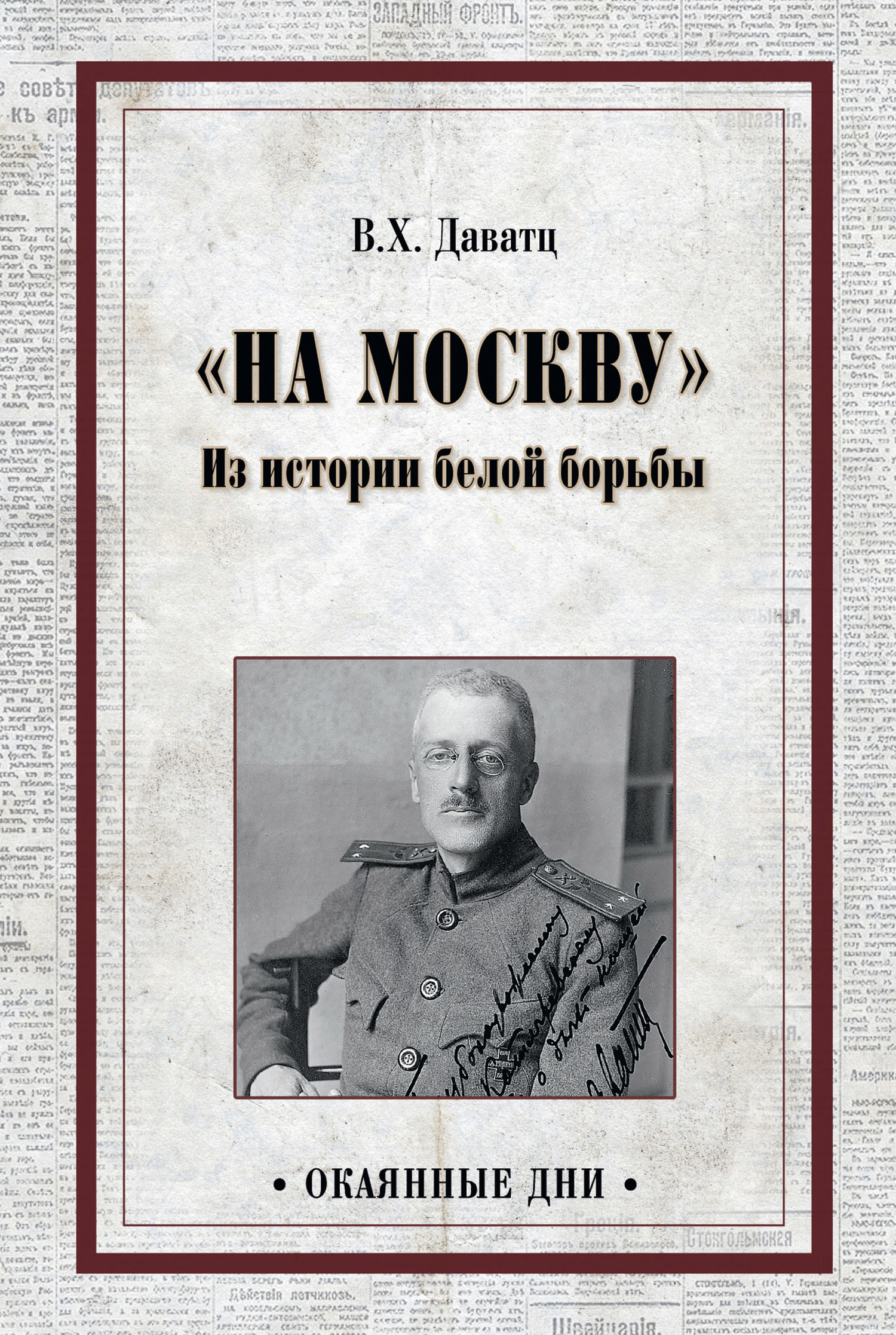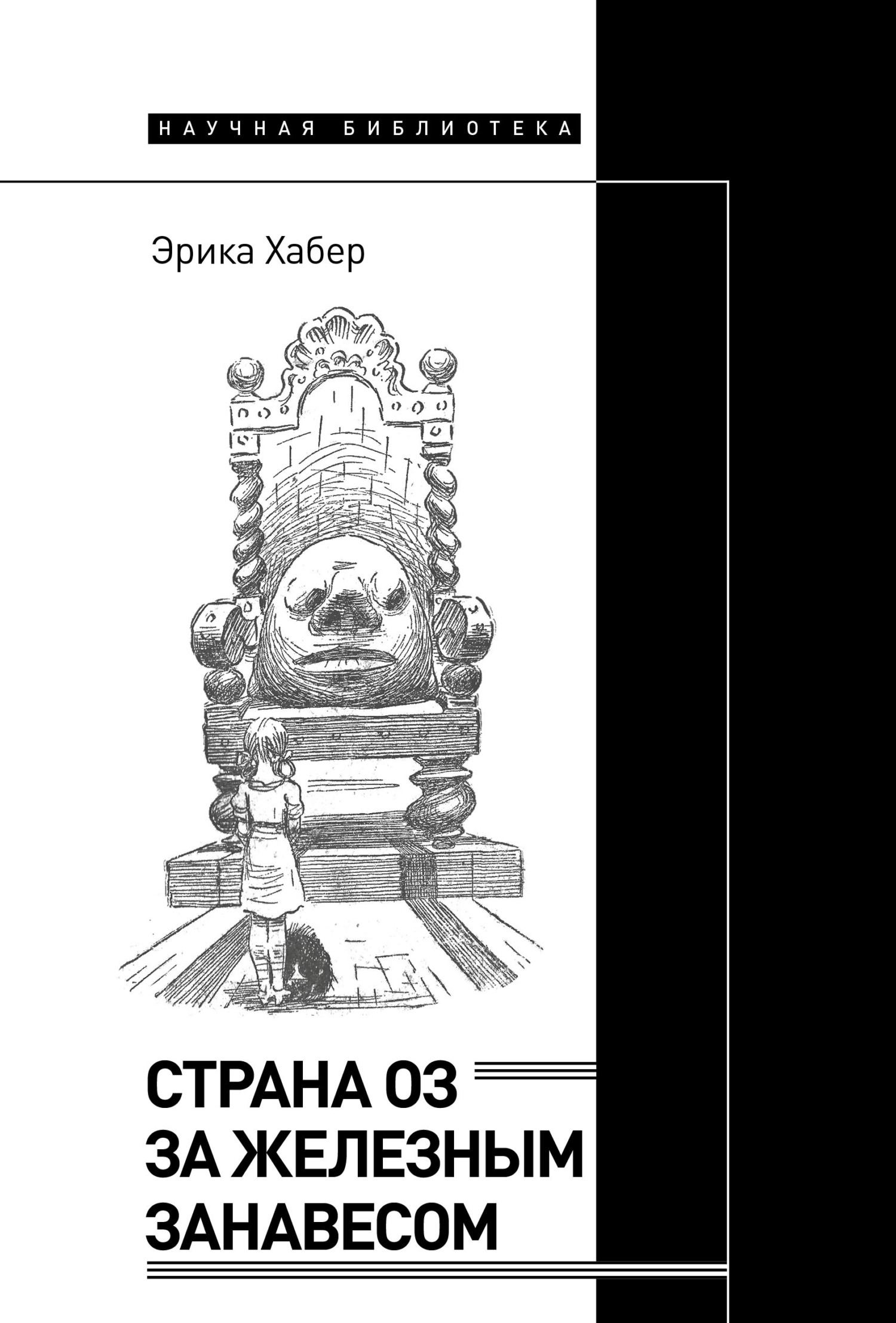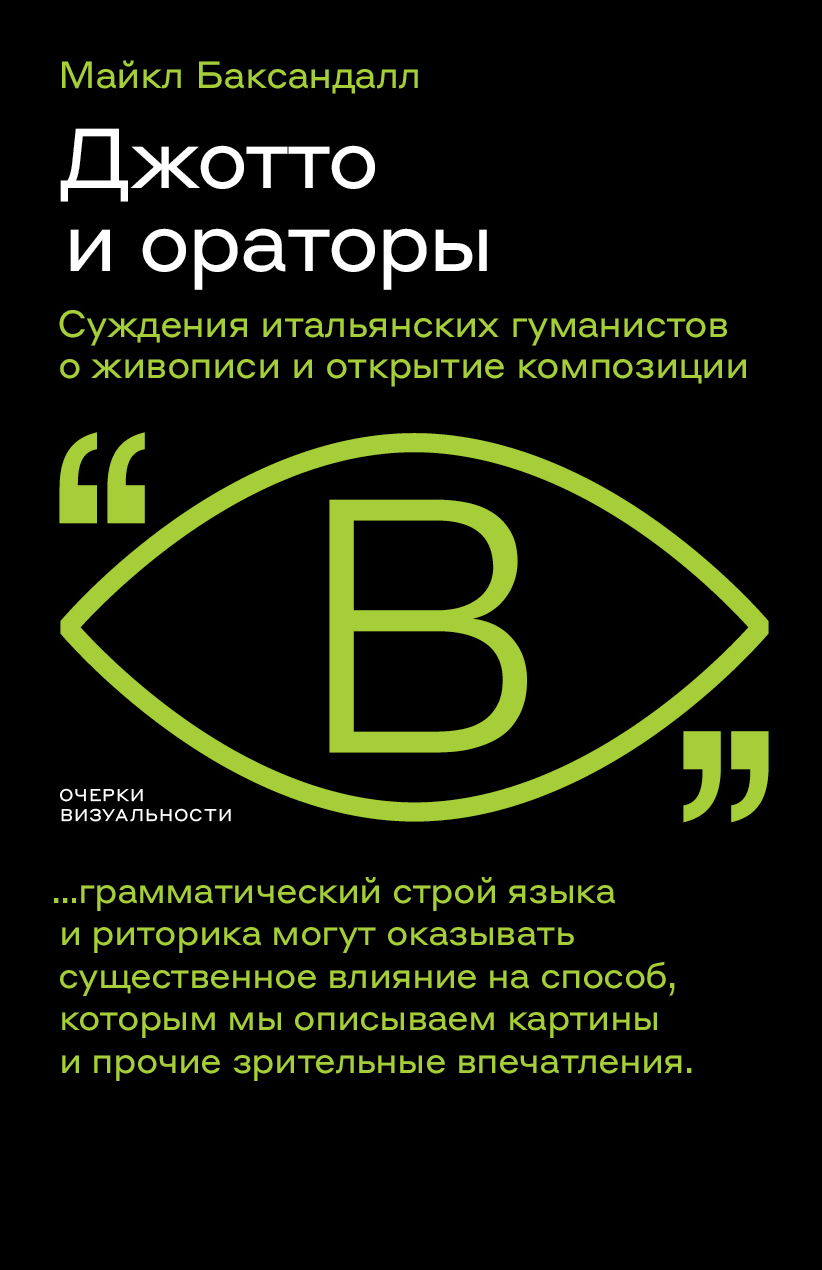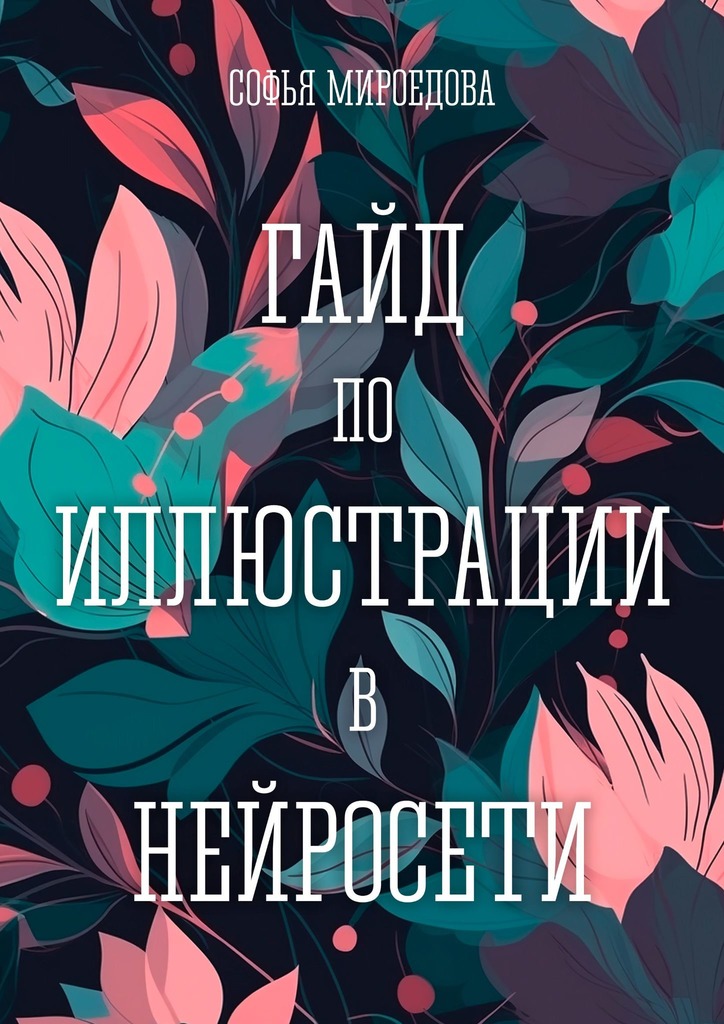Книга Пелевин и несвобода. Поэтика, политика, метафизика - Софья Хаги
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В то время как исходная латинская пословица, «Человек человеку волк», сама по себе звучит достаточно мрачно, а «имиджмейкер» и иже с ним производят удручающее впечатление, в нынешних условиях люди (и их отношения) свелись к еще более прискорбному тройному «Вау!». Последовательность оральных, анальных и вытесняющих вау-импульсов, вспыхивающих и гаснущих в сознании, стирает человеческое в людях и загоняет их взаимоотношения в тесные рамки. Тройное «Вау!» буквально реализует и усиливает Homo homini lupus est. Человек человеку волк не в переносном смысле хищной враждебности к себе подобным, а в смысле гипермедийности современности, буквально низведшей человека до воя («Вау!»).
Излагая теорию уничтожения человечества техноконсюмеристской машиной, Че Гевара прибегает к более широкому спектру американских неологизмов. Оральный вау-импульс соотносится с внутренним аудитором, выкидывающим флажок со словом loser (написанным на английском и в сноске переведенным на русский как «неудачник»), а анальный – с внутренним аудитором, выкидывающим флажок со словом winner (переведенным как «победитель»)152. По понятным причинам призыв подчиняться новому оптимистичному взгляду на жизнь выражен на языке, олицетворяющем господствующие культурные тенденции. В другом месте упоминается, как оскорбительно быть «лузером»: «…Даешь себе слово, что еще вырвешь зубами много-много денег у этой враждебной пустоты… и никто не посмеет назвать тебя американским словом loser»153.
Устами Че Гевары Пелевин размышляет об уничтожении человеческого субъекта, рассматривая американское понятие identity. Identity обозначает иллюзорный внутренний центр:
Identity – это фальшивое эго, и этим все сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через identity назад к своему эго – огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что эго не существует относительно, а identity – абсолютно154.
Слово identity отражает состояние, когда подлинная индивидуальность заменяется иллюзорной (так как человека поглощает коммерческий коллектив). Identity определяется потреблением: «Я тот, кто ест такую-то еду, носит такую-то одежду, ездит на такой-то машине…» В другом месте персонажи Пелевина наталкиваются на незнакомое слово «идентичность» – модное, но ничего толком не обозначающее.
Выступая с критикой глобального неолиберального общества, Пелевин приписывает сниженный, пародийный смысл пришедшим из англоязычного мира понятиям, таким как «либеральные ценности» и «демократия». Морковин, знакомящий Татарского с рекламным бизнесом, объясняет, что «лэвэ» («деньги» на воровском жаргоне) – сокращение от liberal values («либеральные ценности»). Таких людей, как он сам и Татарский, Морковин определяет следующим образом: «Тварь дрожащая, у которой есть неотъемлемые права. И лэвэ тоже»155. В либерально-демократическом обществе предполагается, что гражданскими правами обладает каждый человек. В глобальном неолиберальном обществе, которому Пелевин дает уничижительные характеристики, «свобода» означает деньги, а «демократия» – в современной разговорной речи – рынок.
Как мы видим в «Generation „П“», в современном мире либеральные ценности отождествляются с денежными. Этот процесс описан Бодрийяром как переход от либеральной традиции индивидуального выбора к ситуации, когда «потребитель оказывается независимым в джунглях мерзости, где его принуждают к свободе выбора»156. Деньги («лэвэ») – образ, в котором на практике воплотилось понятие «либеральные ценности» в обществе, перевернув или по меньшей мере заметно исказив суть идеи.
Аналогичные изменения претерпело слово «демократия», в современном употреблении не просто ограниченное суммой предикативных связей (или, по выражению Маркузе, операциональным дискурсом), но полностью утратившее первоначальный смысл:
…Слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, – это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в XIX и начале ХX века. Это так называемые омонимы, старое слово «демократия» было образовано от греческого «демос», а новое – от выражения «demo-version»157.
Упоминание термина «омонимия» обнажает прием, часто используемый Пелевиным (Gap и gap, «вещий» и т. д.)158. Под «демократией», то и дело поминаемой всуе, среднестатистический потребитель в современном мире понимает просто «демо», демонстрацию продукта или услуги.
В эпизоде, когда Татарский устраивается в рекламное агентство к Ханину, мы наблюдаем ключевое лингвистическое и культурное столкновение русской и американской вселенных. Пелевин показывает превращение своего героя из наивного литератора-идеалиста в делового человека, вытесняя русское понятие англо-американским. Лингвистическая динамика выдвинута на первый план:
– Пойдешь ко мне в штат?
Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз.
– Кем? – спросил он.
– Криэйтором.
– Это творцом? – переспросил Татарский. – Если перевести?
Ханин мягко улыбнулся.
– Творцы нам тут на хуй не нужны, – сказал он. – Криэйтором, Вава, криэйтором159.
На тот момент не существовало общепринятого названия профессии, состоящей в написании рекламных слоганов (сейчас обычно употребляют слово «копирайтер», тоже заимствованное из английского). Сообщая Татарскому название его будущей должности, Ханин использует английское creator, записанное в тексте кириллицей. На этом этапе Татарский, как и следовало ожидать, переводит новое слово как «творец», но Ханин тут же его поправляет. Татарский все еще лелеет надежды на творческую деятельность, но Ханин принадлежит миру бизнеса, где все устроено без прикрас.
Этот пример (один из многих) переключения с русского кода на американский перекликается с бахтинским пониманием языка как укорененного в определенной идеологической системе и мировоззрении160. Противопоставляя смысл русского слова «творец» западному понятию копирайтера-рекламщика, обозначаемого словом creator, Пелевин в этом фрагменте, сталкивая языки, вскрывает социокультурное противоречие. В рекламном бизнесе не нужны «творцы» в высоком смысле, присущем этому слову в русском языке, – только прагматичные и циничные «криэйторы»-копирайтеры. «Труды для вечности», упомянутые в начале романа, вырождаются в адаптацию американской рекламы для российских реалий, которой теперь занимается Татарский. Приведенный диалог при этом происходит перед американским рекламным плакатом с тремя пальмами и, как печально отмечает Татарский, «англоязычным обещанием вечных метаморфоз». Этот фон еще раз подчеркивает, что все еще невинный герой переходит одновременно языковую и социокультурную границу161.
Наделяя нейтральный американский термин creator-copywriter явно негативной коннотацией в русском языке, Пелевин не только показывает, что язык укоренен в культуре и что одни и те же слова в России и в США часто вызывают разные культурные ассоциации, но и косвенно дает отрицательную оценку будущей работе Татарского и медиабизнесу в целом. Переключение кодов в романе носит не только комический, но и оценочный характер.
Оппозиция «криэйтор – творец» всплывает и в другом диалоге между Ханиным и Татарским, где присутствует трансмезис – развернутое обсуждение перевода в тексте. Ханин объясняет, что словосочетание brand essence («сущность бренда») переводят на русский как «легенда». Когда Татарский выражает удивление странным переводом, Ханин отвечает: «Что делать, Азия»162. Пелевин вновь иронизирует: «азиатское» (то есть варварское и наивное) восприятие «сущности бренда» как «легенды» – в значении прикрытия (как в жизни разведчика или преступника) – со всей однозначностью указывает, что реклама строится на сплошном обмане, – лейтмотив «Generation „П“».
Вавилонская башня
О том, что Россия ворвалась в глобальный постмодерн, напоминает вавилонское смешение языков, особенно русского и современного лингва франка – американского английского. Карьерный рост Татарского – это мистическое восхождение на зиккурат Иштар, одновременно являющийся Вавилонской башней163. Имя Татарского, Вавилен, отсылает к Вавилону, где Бог, согласно Книге Бытия (Быт. 11: 1–9), смешал языки, чтобы наказать за гордыню людей, вознамерившихся выстроить башню до самых небес. Заговорив на разных языках, строители Вавилонской башни перестали понимать друг друга и не смогли ее достроить.
Когда Татарский посещает зиккурат Иштар / Вавилонскую башню, его речь рассыпается под действием галлюциногенных грибов. Пытаясь попросить воды, вместо: «Мне бы попить хотелось воды» – Татарский произносит: «Мне бы хопить вотелось поды!»164 Слоги, составляющие слова, беспорядочно перемешиваются. Сначала первый слог каждого слова «приклеивается» к другому слову. Затем получается полная чехарда: «Мне бы похить дытелось вохо!»
Утрата