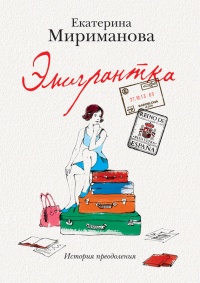Книга И жить еще надежде... - Александр Городницкий
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Самойлов вообще чем дальше, тем больше не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса и плюс к этому — своей постоянной зависимостью от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он как один из первых поэтов обязательно должен был реагировать. Он ощущал органическую потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными, на первый взгляд, но не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу»:
Давид Самойлов и жил «в провинции у моря», найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. «Я выбрал залив», — пишет он сам о себе. Вряд ли он мог предположить при этом, что уже после смерти окажется внезапно за рубежом.
Вместе с тем именно стремление жить подальше от столицы (вспомним Александра Кушнера: «Пребыванье вне столиц здоровей Кремлевских капель») определяет главный личностный и поэтический водораздел Давида Самойлова с Борисом Слуцким. Тот всю жизнь стремился быть как можно ближе к центру событий, жадно впитывал в себя все последние новости, стараясь все время быть в курсе происходящего. Его стихи почти всегда неразрывно связаны с конкретными политическими событиями, переживаемыми нашей страной: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин», «Покуда над стихами плачут», «Евреи хлеба не сеют», «Я строю на песке». Эти и многие другие стихи его поражают прицельной точностью беспощадных жестких формулировок, острой актуальностью и незамедлительной быстротой реакции.
На этом фоне стихи Давида Самойлова кажутся мягкими, порой совсем неактуальными. В них часто как бы отсутствует личная позиция автора (как, например, в одном из лучших его стихотворений «Пестель, поэт и Анна»). Самойлов избегает жестких форм и формулировок, поэтических силлогизмов, внешней экспрессии стиха. При внимательном чтении, однако, убеждаешься, что поэтическая ткань его стихов гармонична и неразрывна, и негромкие, казалось бы, откровения поражают своей глубиной:
Одной из главных особенностей поэзии Давида Самойлова является присутствие воздуха в его стихах, ощущение удивительной музыкальной гармонии их звучания. Секрет этого остается непонятным. Эта прозрачная пушкинская гармония не «поверяется алгеброй». При всем очевидном несходстве эпох, лексики, судеб и характера поэтических талантов, как это некоторым ни покажется странным, звонкие самойловские стихи более всего сродни пушкинским. Их сближает, помимо прочего, легкость и кажущаяся простота.
Не менее важным параметром, связывающим напрямую поэзию Самойлова с пушкинской, можно считать то постоянное ощущение улыбки, которое присутствует у Самойлова даже в самых серьезных стихах — явление вообще достаточно редкое и потому особенно ценное в русской поэзии:
Или:
Не говоря уж о таких его поэмах, как «Дон Жуан» или «Юлий Кломпус». Помню, как после первого прочтения озорной поэмы «Юлий Кломпус» в Москве, куда он привез ее из Пярну, Дезик сказал мне: «Сам не знаю, как она у меня выскочила. Время было самое неподходящее. Понимаешь, Петя болеет, Галя — черная, денег нет, а из меня, как назло, прет эта поэма. Ну что ты будешь делать!» Действительно, по свидетельству Галины Ивановны, «Юлий Кломпус» был написан во время второй Петиной реанимации, когда ночью до приезда реаниматора родители попеременно держали тяжелый водопроводный шланг, из которого наскоро соорудили дыхательную трубку для Пети.
Может быть, именно поэтому Самойлову всю жизнь ближе других оставались светлые, несмотря ни на что, образы гениальных Шуберта и Моцарта: «Шуберт Франц не сочиняет: как поется — так поет». Или: «Но зато — концерт для скрипки и альта!»
Что же касается политизированной декларативной эстрадной поэзии, ставшей столь модной в начале 80-х и снова набирающей силу в наши дни, то Самойлов ее откровенно не любил, не считая ее явлением поэтического ряда. С горечью говорил он мне при последней встрече в Москве, у него дома на Астраханском, о мутной волне такой поэзии, которая поднимается сейчас, о конъюнктурных однодневках, звучащих с эстрад, о том, что действительная поэзия становится не нужна в наш прагматичный век, жадный до сенсаций и разоблачений. При всем том Самойлов всегда был подлинно русским поэтом с государственным сознанием, поэтом того ушедшего поколения, которое кровью своей на полях самой кровавой войны в истории человечества заплатило за право на это сознание.
Иногда, хотя на мой взгляд и несправедливо, его обвиняли даже в «имперском» восприятии событий. Однажды наш общий знакомый, прозаик Марк Харитонов, послал ему рукопись своего большого романа об Иване Грозном. Самойлов написал автору длинное письмо, где, положительно отзываясь о романе в целом, упрекал в то же время автора в «неправильной исторической концепции при освещении событий. Так татарский историк навряд ли мог бы правильно осветить Куликовскую битву». Сам Самойлов вполне унаследовал моральную традицию ведущих российских писателей от Достоевского до Толстого искать в себе, а не в окружающих, причины общественных неурядиц. В последнюю встречу мы с ним из-за этого даже поспорили, так как он вдруг начал говорить об исторической вине евреев перед русским народом: «Не надо было евреям лезть в первое советское правительство и чека».
Во всем остальном же, впрочем, он был совершенно русским, а не «русскоязычным», — как его стараются представить идеологи литературной «черной сотни», писателем. Не случаен в связи с этим его живой интерес к российской истории. Исторические стихи и стихотворные драмы Давида Самойлова — тема отдельного исследования. Во всех своих исторических произведениях он концептуален. Это не красочные иллюстрации к минувшим событиям былого, а как бы опрокидывание их в проблемы сегодняшнего дня. Наиболее яркий пример этого — поражающая своим лаконичным изяществом поэма «Струфиан», в которой императора Александра Первого похищают из Таганрога инопланетяне. Фантастический современный фон, возникший в поэме на основе рассказов и лекций одноклассника Дезика, известного «тарелочника» Феликса Юрьевича Зигеля, подчеркивает актуальность проблем государственного переустройства бунтующей многонациональной империи. И в челобитной, подаваемой государю Федором Кузьминым, легко угадывается современная программа сторонников «патриотической России»: