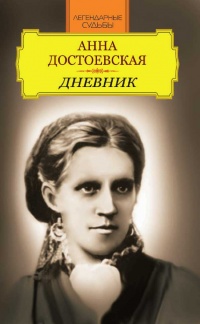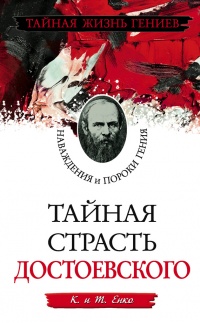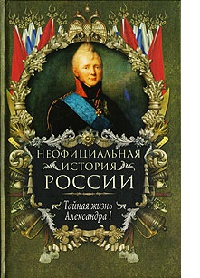Книга Последний год Достоевского - Игорь Волгин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не исключено, что цельная, внушающая невольное уважение личность Баранникова подействовала даже на Особое присутствие Правительствующего сената: во всяком случае, из всех вероятных кандидатов на виселицу он один не был осуждён на смертную казнь – он, чьи деяния подразумевали её многократно.
Его приговорили к вечной каторге.
Приговор, как он сам говорит, раздавил его. Приготовивший себя к смерти, к этому он был не готов[1230]. Александр III сократил срок до двадцати лет[1231]. После чего он провёл в одиночной камере Алексеевского равелина немногим более года[1232].
Такова судьба человека, с которым жизнь (вернее, смерть) свела Достоевского. Вопрос лишь в том, как понимать слово «свела»: в прямом или в переносном смысле.
Документы из полицейского досье
В своей книге «За и против» (а ещё раньше – в повести «Сомнения Фёдора Достоевского») Виктор Шкловский высказал предположение, что смерть жильца квартиры номер десять так или иначе связана с арестом Баранникова[1233].
Впрочем, никаких серьёзных доказательств представлено не было: версия не получила признания (и даже не обсуждалась) в литературе[1234].
Остановимся на этом вопросе подробнее.
В обширной мемуаристике народовольцев только один-единственный раз имена Достоевского и Баранникова называются рядом.
В своих воспоминаниях М. Ф. Фроленко (он судился вместе с Баранниковым) говорит о том, что некоторые члены Исполнительного комитета, в частности Колодкевич и Баранников, переживали иногда настроение полной безопасности. «Как-то ночью, – пишет Фроленко, – они шли ещё с кем-то, и их поразила тишина, пустота улиц недалеко от квартиры Баранникова, и на прощание с ним они все посмеялись над страхами шпионов, боязнью слежки. На них напало то же спокойствие, уверенность в своей безопасности. В эту же ночь Баранников был арестован. Жил он на квартире Ф. М. Достоевского, и его спокойствие отчасти и в этом обстоятельстве находило себе поддержку»[1235].
Кое в чём Фроленко ошибается. Во-первых, Баранников был арестован не ночью, а днём, и не на своей, а на чужой квартире. Во-вторых, он жил не в квартире Достоевского, а рядом.
Но, с другой стороны, то, что Фроленко запомнил Баранникова живущим именно на квартире Достоевского, не может не навести на размышления. Прежде всего, отметим (хотя это и может показаться само собой разумеющимся), что Баранников знает, кто его сосед, и это обстоятельство им как-то учитывается. Из текста Фроленко совершенно недвусмысленно следует, что жилец Достоевского лично знаком с хозяином. Более того: именно уверенность в факте этого знакомства могла породить у Фроленко ошибку памяти – и он невольно переместил Баранникова в соседнюю квартиру.
Далее. Фроленко говорит, что спокойствие Баранникова отчасти находило себе поддержку в том обстоятельстве, что он живёт на квартире Достоевского. Что остаётся, если исключить из этого утверждения фактическую ошибку, то есть квартиру? Остаётся, что Баранников считает названное им лицо весьма надёжным «прикрытием». При этом не указано, знает ли само лицо о таковых своих функциях или выполняет их, так сказать, объективно.
Теперь посмотрим, как развивались события в двадцатых числах января. Для этой цели наряду с другими источниками мы используем обнаруженные нами архивные документы: они извлечены из огромного, насчитывающего несколько тысяч листов «дела 20-ти». Это дело рассматривалось Особым присутствием Правительствующего сената с 9 по 16 февраля 1882 года. Материалы предварительного следствия и самого процесса сосредоточены в настоящее время в ГАРФ (Ф. 112. Особое присутствие Правительствующего сената)[1236].
От ареста Баранникова тянется цепочка провалов, которые сильно обескровили партию как раз накануне цареубийства 1 марта. Уже после Октябрьской революции стало известно, что причиной этих провалов было предательство одного из осуждённых в ноябре 1880 года по «делу 16-ти» рабочего Ивана Окладского.
На самом процессе 16-ти (в результате которого были казнены Квятковский и Пресняков) Окладский, подражая другим подсудимым, держался вполне достойно. Он заявил в своём последнем слове: «…я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление»[1237].