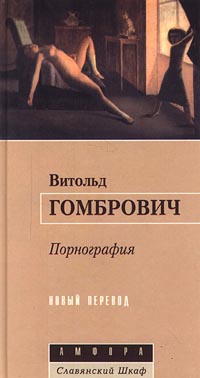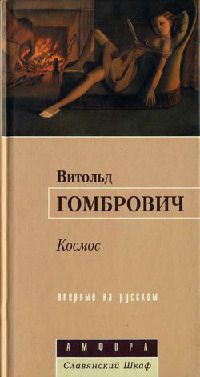Книга Дневник - Витольд Гомбрович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Брезент и труба. Локоть. Матрос. Слуга. Ох, никакое чувство к бесповоротно удаляющейся не было возможно из-за нагромождения фактов… факты и факты… это была череда фактов, факты высыпали гурьбой, туча событий, они налетели на меня в моем отдалении, как саранча, я просто не мог отделаться от фактов, а при этом их бешеная активность стала причиной какой-то бешеной же их деградации, ничто не могло появиться (и существовать) на самом деле, потому что идущее ему вослед уже наступало ему на пятки, никогда я не был до такой степени пожираем фактами, хлопает брезент, пенится струя, игры и забавы, нитка и каблук. Глупость. Олух. Вынуть. Погасло. Прыжок. Силуэт. Шум. Бутылка. Молиться. Люлька. Кожура… и в шуме, в блеске, в движении вперед, в отдалении, в прибытии и отходе судна. Ох, как же меня изводило настоящее, как ослабляло! Мы проплывали северное побережье Бразилии, «Federico» шел со средней скоростью восемнадцать узлов при благоприятном бейдевинде[234]. Я смотрел на убегающую землю Америки. Прощай, Америка! К вечеру деградация фактов, о которой я говорил, фактов, высыпавших кучей и растворившихся в шуме, а к тому же укачанных, сливающихся и расплывающихся, стала все сильнее давать о себе знать, но я не был наверняка в этом уверен, сам будучи в шуме и качке, пожираемый удалением… но, пожалуйста, хотя бы такое происшествие, насколько я мог заметить, довольно даже бесстыдное, имело место, например, где-то после одиннадцати (причем не ночи, а утра, при свете дня) один из матросов, некий Дик Хартис, нечаянно проглотил конец тонкого такелажа, свисавшего с бизань-мачты.
В результате, как полагаю (но не могу утверждать это с полной уверенностью, потому что масса других фактов отвлекла мое внимание), в результате рефлекторной деятельности пищевода он стал быстро втягивать в себя эту веревку, люди глазом не успели моргнуть, как он въехал по ней на самый верх, точно фуникулер с широко открытым испуганным ртом. Перистальтика оказалась столь сильной, что было невозможно стянуть его вниз, даже после того, как двое матросов уцепились за его ноги. А надо добавить, что в то же самое время судно шло своим курсом и я удалялся… люди собрались, долго совещались, после совещания первому офицеру по фамилии Смит пришла идея применить рвотные средства, но тогда возник вопрос: как ввести это средство в рот, полностью забитый канатом? Тогда после еще более продолжительных совещаний (во время которых тучи происшествий прилетали и улетали, в шуме, в качке, сдерживавшей их лёт) пришли к выводу, что необходимо воздействовать через глаза и нос на воображение матроса.
И вот что произошло (сцена глубоко врезалась в мою память, так глубоко, как только может врезаться неумолимо удаляющаяся сцена). По приказу офицера один из матросов взобрался на мачту и представил пациенту на тарелке порцию крысиных хвостов. Несчастный смотрел на них вытаращенными глазами, но лишь когда к хвостам добавили маленькую вилочку, ему сразу же вспомнились макароны его детских лет, и он, блюя, съехал на палубу так быстро, что чуть не сломал себе ноги. Я, признаюсь, предпочел не слишком рассматривать эту сцену, которая в своей искрометности была ослаблена и замирала, похожая на полувыцветшие цветные гравюры откуда-то из сундука, с чердака, сама по себе выразительная, но какая-то такая, будто смотришь на ее как через закопченное стекло.
Вторник
Порвалась наша связь с американским континентом. Трансатлантический лайнер в открытом Атлантическом океане переходит экватор, целясь носом в Европу.
Любопытство? Возбуждение? Ожидания? Вовсе нет. Ждущие меня там друзья, которых я до сих пор в глаза не видел: Еленьский, Гедройц, Надё? Нет. Париж через тридцать пять лет? Нет. Я не хочу познавать. Я лавочку закрыл и свой итог подвел.
Брожу… и все, о чем бы ни подумал, в ту же самую секунду становилось хоть немного, но дальше. Мысль моя за мною, а не передо мной.
Телеграмма от Коти Еленьского, что собираются прислать мне двести долларов. Но до сих пор денег нет. Может, в Лас-Пальмасе?
Скучно, ни одного интересного лица. Шахматы. Я выиграл конкурс, получил медаль и стал чемпионом судна по шахматам.
Достижение смерти движением вспять? (не доверяю таким «мыслям»).
Среда
Архитектура.
Безостановочно возводимый кафедральный собор… Я строю это здание и строю… не имея возможности взглянуть на него со стороны. Иногда, в исключительных случаях… я будто различаю на мгновенье что-то… связь сводов, арок, какой-то элемент симметрии… Иллюзии?
В 1931 году… разве мог я тогда знать, что моей судьбой станет Аргентина? Это слово никогда не являлось мне в предчувствиях.
И тем не менее именно тогда я написал рассказ «Происшествие на бриге „Бэнбури“». И в этом рассказе я плыву в Южную Америку. Моряки поют:
Все аргентинки как картинки,
На то они и аргентинки…
Эта вещица удивительным стечением обстоятельств была пару месяцев назад переведена на французский и, возможно, уже в эту самую минуту была в парижском «Прёв». К ней, стало быть, плыву.
Иллюзии! Миражи! Ложные связи! Никакого порядка, никакой архитектуры, тьма в моей жизни, в которой не проступает ни единый настоящий элемент формы, а ведь сегодня меня атакуют целые фрагменты этого рассказа, призраками всплывающие в воспоминании. «Фантазия, словно спущенная с цепи злая собака, скалила зубы и глухо ворчала, прячась по углам». «Ум мой слаб. Ум мой слаб. И из-за этого стирается различие между вещами…». «Палуба стала абсолютной пустыней. Море резко вспенилось, ветер дул с удвоенной силой, по сумрачным водам сновал разъяренный кит, неутомимый в своем круговом движении».
Хочу еще заметить, что «встреча» произошла сегодня на рассвете, на северо-востоке от Канарских островов. «Встречу» забираю в кавычки, потому что слово это неполноценное…
Ночью мне не спалось, я вышел на палубу до рассвета и долго пробивался взглядом через темноту к той вещи, на которую всегда можно смотреть, — к воде, увидел огоньки нескольких судов, шедших к Африке… в конце концов не скажу, что ночь прояснилась, но пропала, размякла, сама себя поглотила, вдруг то тут, то там стали появляться белые сгустки, которые во все более суровом безразличии к грядущему рассвету повыползали точно вата, и море заполнилось этими белыми айсбергами облаков, меж которых я увидел то, на что можно смотреть вечно, — воду, белопенные волны. Внезапно из белых пелен выплыло нечто тоже белое, с большой белой трубой, которую я сразу разглядел на расстоянии каких-то трех-четырех километров. Выплыло и сразу скрылось в клубах тумана, снова вынырнуло, правда, я уже не смотрел на него, все больше на воду смотрел… хорошо зная, что ничего этого нет, предпочитал не смотреть, но несмотренье мое как бы даже подтверждало его присутствие. Интересно получилось: несмотрение стало разновидностью смотрения. Я также предпочел не думать и не чувствовать, поскольку не испытывал ни малейшего желания напрасно думать и чувствовать. Но интересно, что недумание и нечувствование могут стать разновидностью чувствования и думания. Между тем явление проплывало — но проплывало в фантасмагории растрепанных клубов чуть ли не с оперным пафосом, как убитый брат, брат умерший, брат немой, брат потерянный навсегда и ставший безразличным… нечто такое обнаружилось и воцарилось в отчаянии глухом и абсолютно онемевшем среди белых клубов.