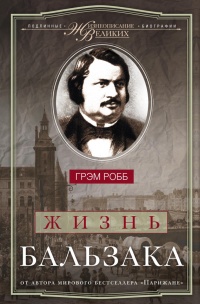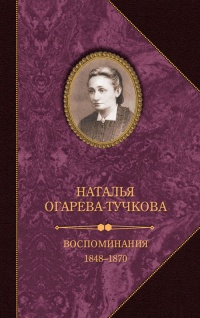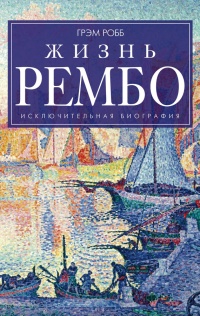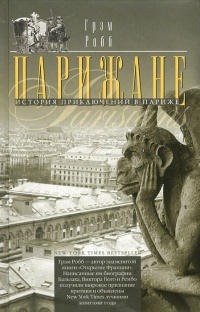Книга Жизнь Гюго - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Самые последние строки (9 мая 1884 года) стали слабым, домашним отголоском рыка сфинкса, последним актом приручения льва: «Я желаю коту доброго утра; / Я протягиваю руку, он дает мне лапу; / Мы добрые друзья»{1441}.
Свое последнее лето Гюго провел в доме Поля Мериса на побережье Ла-Манша, между Дьепом и Феканом. В день отъезда, когда вещи были собраны и его ждал экипаж, Гюго долго не могли найти. Обыскали дом и сад. Там его не оказалось. Наконец его нашли на террасе летнего дома. Он сидел в кресле и смотрел на море{1442}.
Еще последние слова… Жоржу и Леону Доде, которые играли в саду: «Земля зовет меня»{1443}. Своему секретарю Леклиду – они повторялись, как напев: «Грустный, глухой и старый, / Трижды молчащий, / Закрой глаза свои на земле, / Открой их на небесах»{1444}. Последний раз Гюго говорил на публике в студии Бартольди, после того как осмотрел изнутри статую Свободы – один памятник обратился к другому: «Море, это огромное беспокойное существо, безмятежно наблюдает за единением двух великих земель»{1445}.
Попрощавшись с Океаном, Гюго несколько раз сказал последнее «прости» и другой «пропасти» – женщине. Весной 1885 года в его дневнике восемь раз появляются символы, обозначающие половой акт{1446}. Последний появляется 5 апреля, через тридцать восемь дней после того, как ему исполнилось восемьдесят три года. Таким образом, последние записанные им слова (19 мая) приобретают вполне уместное двусмысленное значение: «Любить – значит действовать».
14 мая 1885 года, после ужина с Фердинаном де Лессепсом, Гюго начал свой последний спектакль, прорыв свой канал для внешнего мира.
Лежа в ту ночь в постели, он вдруг ощутил тошноту. Врачи диагностировали поражение сердца и закупорку легких. У него началась пневмония. Ему следовало надевать шляпу, писали в «Фигаро», чей репортер видел его накануне с непокрытой головой в академии. К следующему вторнику улицу перед домом наводнила толпа.
Гюго лежал в своей широкой кровати под балдахином, глядя на камин со старыми бронзовыми часами, и гадал, сколько времени он будет умирать. Ему уже стало трудно дышать. Время от времени болезнь поднимала его и встряхивала, как тряпку. «Друг, – обратился он к Локруа, – с тобой говорит мертвец». Жорж и Жанна стояли на том месте, где дедушка мог их видеть, когда открывал глаза, но Жорж то и дело разражался слезами; его пришлось увести. Внизу гости расписывались в книге посетителей. Подробное и полное освещение агонии Гюго доказало: он справедливо считал Вольтера и Гете своими ближайшими соперниками из современников. Ни один другой писатель не пользовался такой широкой известностью. Уход Гюго стал новостью на первых полосах всех газет от Санкт-Петербурга до Сакраменто{1447}.
Ночь с 19 на 20 мая была ужасна. Гюго произносил обрывки фраз по-французски, тут же переводил их на латынь, а затем на испанский, как будто обращался к международной аудитории. В два часа ночи он вдруг выскочил из кровати; его пришлось укладывать силой. Затем он перекатился на другой бок и несколько секунд стоял на полу, крича: C’est ici le combat du jour et de la nuit («Это борьба дня и ночи» или «света и тьмы»). Идеальный александрийский стих. Присутствовали и внеземные слушатели – семейные «ангелы» и его собратья-маги: Гомер, Иисус Христос, Данте, Шекспир. «Вы знаете, что я верю, – писал Гюго в послесловии к оде на смерть Готье, – там, наверху, читают стихи (если они очень красивы). Мое стихотворение порадовало бы нашего бедного друга. Хорошо, что все должно вернуться на небеса, но грустно, что ничто оттуда уже не спускается»{1448}.
Александрийский стих был определенно достаточно красивым в его обманчивой ясности. Вопреки общепринятому мнению, типичная антитеза Виктора Гюго растворяет противоположности, а не разводит их. По какую сторону жизни находится ночь, а по какую – день? Еще одна фраза, слетевшая с его губ в последние минуты: «Вижу темный свет», – была более явным намеком на единство противоположностей. Возможно, подтвердилось ужасающее видение из «Что говорят уста тьмы»: «Ужасное черное солнце, излучающее мрак…»
На рассвете после тяжелой ночи он совсем ослаб. Репортеры ринулись в редакции. Но Гюго неожиданно полегчало. «Как трудно умирать, – сказал он. – Я был уже готов». Стоявшей на улице толпе постоянно передавали его «последние слова». «Вот и конец, мое сердце умерло». «Мне хорошо. Это смерть». Католическая газета «Вселенная» нашла последние слова Гюго «огорчительными из-за отсутствия какой бы то ни было религиозной мысли» и продемонстрировала свою набожность, предсказав ему вечное страдание, «которое покажется ему гораздо более долгим, чем мучения длиной в несколько часов или дней». Гюго сообщил о «легкой боли» – он по-прежнему был мастером скромных преуменьшений. Врачи предписали морфин, препарат хинного дерева, рвотный орех и кислород. Толпа снаружи наслаждалась великолепным зрелищем: из кареты вышла Сара Бернар. Она пришла засвидетельствовать свое уважение.
В пять часов – неожиданность: Гюго стало лучше; давно уже он не чувствовал себя так хорошо. Казалось, болезнь его очистила. Жорж уверял Жанну, что дедушка будет жить. Врачи не знали, что писать в следующем пресс-релизе. Гюго сидел в кресле, спрашивал об Алисе, которая слегла после бессонной ночи. Под занавес он выпил три чашки бульона, а затем – бокал белого вина. Редакторы газет готовили специальные выпуски и проклинали свое везение. Архиепископ Парижский, который в то время сам «поправлялся после болезни, сходной с его собственной», предложил соборовать Гюго. В комиксе его изобразили сидящим на корточках на крыше дома Гюго, с сачком для бабочек, в который он надеялся уловить заблудшую душу{1449}. Локруа напомнил архиепископу последнюю волю Гюго. Его завещание было общеизвестно: «Я закрою мои земные глаза, но духовные глаза останутся открытыми шире, чем раньше. Я отрицаю молитвы всех церквей. Прошу о молитве из каждой души». Обращение Виктора Гюго на смертном одре стало бы величайшим потрясением даже для католической церкви. Репортеры религиозных изданий сочиняли необычно злобные некрологи. Некоторые решили приукрасить истину, написав, будто Виктор Гюго в последний миг позвал священника.
В ту ночь над Парижем разразилась гроза. Утром толпа стояла под зонтиками – Гюго мог бы сравнить ее с римской «черепахой», осаждающей крепость. Гюго попрощался с Жанной. Ужасная борьба началась в семь утра. Слышали слово «расставание». Полицейские сдерживали толпу. Гюго поднял голову, как будто поклонился и снова упал на подушку. На сей раз он ушел навсегда. Часы остановились в 13.27 в пятницу, 22 мая 1885 года. Неофициальный конец XIX века. То была смерть, которой он имел все основания гордиться.