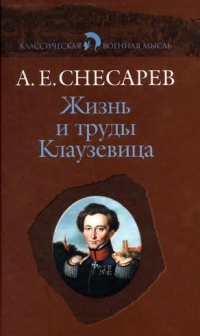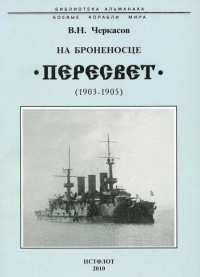Книга Письма с фронта. 1914-1917 год - Андрей Снесарев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Получил от дяди Вани письмо. Он, думая, что я в своей дивизии непостоянен, чуть не отказался от мысли воспользоваться моими услугами, но теперь изменил свой план и просит меня взять Ваню к себе. Он служит в Харькове, в 30-м пехот[ном] запасном полку. Буду писать командиру этого полка. Очевидно, Ване стало уже невтерпеж пребывание в запасном полку… оно верно, что не мед, особенно при культурности Вани, о которой пишет дядя и которая всюду, конечно, уязвляется до глубины духа.
Только что ко мне заезжал проститься Скобельцын, который отстранен от дивизии. Он был рядом и левее меня. Отстранил его Гутор, который сам сейчас отстранен. На место Гутора назначен Лавр Георгиевич, о котором в газетах пишут очень тепло и красиво, как о народном герое. Я рад за этого хорошего человека и моего личного друга.
Давай, моя золотая, твои глазки и губки и наших малышей; я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
12 июля 1917 г.
Дорогая женка!
Писать тебе сейчас очень трудно, но стараюсь, чтобы ты была спокойнее. Через день я, вероятно, буду у порога родины, у того места, как мы называли некоего барона. Делиться переживаниями не буду, так как мои сведения всегда отстанут от газет. Неделю тому назад выслал тебе 440 руб., но дойдут ли при теперешней суматохе? С Ник[олаем] Фед[оровичем] часто говорим о тебе, и вчера он удивил меня фразой: «Могу себе представить, как страдает теперь ваша супруга». Сам он накануне начавшегося у нас отступления, 7.VII, писал своей невесте такие строки: «Я должен тебе открыть, что по моему мнению в России нет армии, и это наша страна скоро узнает в ужасной картине». Мы с ним болтали сегодня утром, проезжая верхом по степной равнине, покрытой на огромном пространстве нескошенной и разросшейся травой. Это было красиво; утро тихое и прохладное. Но людская природа так мало гармонировала с настоящей. Я ехал позади своей дивизии с группой казаков, а затем на походе ее обогнал. Дезертиры всюду, и это самое тягостное: они идут, спят, бродят по селам. Я их усовещиваю, ругаю, но они мне так противны, что никаких сил моих не хватает.
У дороги горит покинутый автомобиль, и мы с любопытством его рассматриваем. Твой супруг превратился в какую-то успокаивающую машину: всё так нервничает и всё ко мне. Ник[олай] Фед[орович] мне в этом прекрасно помогает. У нас центр спокойствия, и чем дальше от нас, тем больше волнения. Я многое вспоминаю из практики Павлова и только теперь понимаю, насколько его правила были умны и сообразованы с обстановкой. Игнат мой загрустил, и я его понимаю, – от него уже не так далеко, но он храбрый человек и держит себя прекрасно. Осипа позавчера выругал: вздумал бурчать на меня при солдатах, вчера мы не разговаривали, а сегодня по-хорошему. Великоруссы-солдаты (конечно, из мерзавцев) говорят: мы дойдем до Киева, а там пойдем к себе, а хохлы пусть себя обороняют сами, свое хохляцкое царство. Так наивно и не вовремя надумана самостийность Украины. Новостей у нас нет никаких; приезжий из Петрограда сообщает, что 6–7.VII там была резня и убито более двух тысяч. Ленина и сообщников арестовали. Почему не вешают, говорят здесь со всех сторон. Я выхитриваю сон, и мне это удается, хотя иногда с риском попасть в плен, напр[имер], сегодня прошла вся дивизия мимо места, где я еще был в кровати… Экстравагантно, но зато сплю, а иначе бы крах.
Давай, моя ненаглядная, твои губки и глазки, а также малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю. Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Лелю, Нюню, деток. А.
15 июля 1917 г.
Дорогая моя женушка ненаглядная!
Сегодня первую ночь я ночевал с удобствами: на большой кровати, в просторной комнате с картинами и умывальником; это было в большом барском (польском) доме, но, увы, уже на родной ниве. Кроме этих удобств я после шести ночей в первый раз мог поспать от 12 до 8 часов, и ты поймешь, что (оставив в стороне общие соображения) я чувствую себя бодрым и ладным. Дивизия моя ведет себя недурно (насколько это можно при теперешней обстановке), особенно два первых полка; во всяком случае, мы переходим в упорные контратаки, укладываем обнаглевшего противника грудами; в одном, напр[имер], случае полк уничтожил два немецких эскадрона, при этом люди так обозлились, что, взяв в плен старшего офицера, еще одного и одного солдата, остальных докололи всех до единого; в другом случае было отбито четыре атаки германских полка (наших было втрое меньше), и он был прогнан назад; взято 12 немцев и два пулемета. Конечно, раньше я одним полком при отходе делал более блестящие вещи, но теперь (при «подвигах» Гвар[дейского] корпуса, 74, 113, 153-й и других дивизий, о чем ты читала, конечно, в газетах) приходится довольствоваться и этими пустяками; да и за них я получил благодарность главнокомандующего.
Сегодня я в первый раз прочитал газеты и вижу, что драма ясна, понятно состояние армии, но некоторые умы еще не отрезвлены: все еще защищают революцию, где-то видят контрреволюцию, когда надо все это забыть и спасать родину, которая гибнет. И если это может сделать черный антиреволюционный и антисвободный эфиоп, то нашим товарищам нужно становиться на колени и взывать: «Эфиоп, черный эфиоп, какие бы то ни были твои думы и мысли, спасай…» – и он, если будет чудо, спасет.
Вчера в 19 часов я вписывал кое-что в дневник и вдруг запутался во времени: смотрю, на часах 7, и думаю, что утро; понял только тогда, когда Ник[олай] Фед[орович] рассмеялся и объяснил мне. Выходит оттого, что день превращен в ночь и обратно, что соснешь немного утром, иногда прикорнешь после обеда, и весь распорядок, к которому мозг привык, путается, а с этим путается и представление о ходе времени. В дневнике моем день и места нахождения обозначаются, напр[имер], так: до 6 часов там-то, затем движение, затем до 12 часов там-то…
Сейчас привели одного солдата, который был пойман в грабительстве и попытке к изнасилованию; я случайно поехал им навстречу, выслушал слова конвоира и женщины и отдал приказание немедленно расстрелять его за сараем. Я пошел к себе, и за мною приходит мой комендант, который мне показывает какую-то бумажку; из нее значилось, что грабитель и насильник препровождался в штаб другой дивизии, и значит, вынесет тот или другой приговор другой начальник дивизии… Они, эти бродяги, дезертиры, грабители, насильники, а в душе, как общий тип, трусливые и дрянные солдаты, отравляют все наше существование; еще нам-то в этом отношении сносно, так как мы всегда в сфере огня, а бездельники эти его не любят, но дальше от нас вглубь дезертиры собираются кучами и толпами, и там они ужас не только для населения, но и для штабов, транспортов, обозов. Когда мы их встречаем на нашем пути, то кричим им: «Куда тащишься, сволочь!», и они, поджав хвост, виновато плетут нам какую-либо оправдательную историю, но на 20–25 верст от фронта они уже дерзки и невиновны, они рассказывают другие истории и ведут себя нагло. На 30–35 верст их наиболее густая волна, а дальше вглубь страны они все больше и больше редеют, пока наконец не становятся отдельными единицами; такие единицы улавливаются еще даже на 150 верстах от фронта. Что они делают – этого нельзя передать; даже мы иногда, проезжая ночью по деревням, слышим крики насилуемых женщин, но у нас эти насильники, как правило, обычно этим самым актом и кончают свою карьеру. Глубже – эта картина шире, ужаснее, ярче. Как и многое другое, эту сторону у вас не представляют себе в достаточно ясной картине.