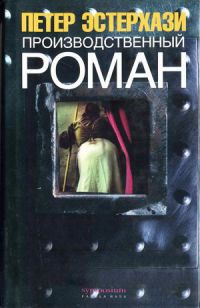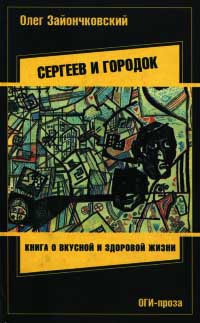Книга Harmonia caelestis - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
197
Благодаря этим купонным вылазкам родители наши на практике могли убедиться в пользе изучения иностранных языков. А мы и не сопротивлялись, болтали вовсю, тем более что у отца не было возможности нас поправлять. Обычно он поправлял всех: корректно, вежливо и неумолимо. Организм его, видимо, не переносил неправильного склонения. У него начиналась желтуха. (Или это от выпивки? Шутка.) Не щадил он и мать, поскольку дело было, собственно, не в ней, а в склонении. И теперь он со злодейской надменностью разгуливал в темном лесу всех этих der, die, das, не боясь заблудиться.
Самой верной картой в этом обмане были, разумеется, мы, дети. И, честно сказать, главное тут — не знание языка, а штаны. Родители, наряжая нас холодным, ветреным мартовским днем в кожаные портки, били наверняка.
Кожаные портки — вещь весьма специфическая и здоровому венгерскому духу, в том числе и нашему, изначально чуждая, подозрительная. Но зато, подобно плащу из болоньи или, положим, джинсам, — западная. Кожаные так кожаные — джентльмен не привык удивляться. Хотя с какой стати я должен чувствовать себя отпрыском какого-нибудь баварского фермера, от которого несет навозом?
Короче, мы их носили. И надо сказать, что подлинное свое «я», всю свою индивидуальность кожаные портки проявляют, когда их носят. Бывают они двух типов — гладкие и шершавые. Мой братишка был обладателем гладких, я — шершавых, ну а насчет сестренки уже не помню — помню только, как забавно торчали из этих штанов ее тоненькие, будто паучьи лапки, ножонки. Описываемые штаны имеют одно замечательное свойство — не пачкаться. Этого они не умеют, не могут, это не их философия; если грязь на матерчатых брюках выглядит просто скандалом, на джинсах — спустя какое-то время — иллюзией грязи, то здесь это благородная патина. Какое сладкое наслаждение — прилюдно и с полным правом вытирать грязные или даже жирные руки о штаны!
— Так принято! — затыкали мы рот сомневающейся матери, ссылаясь при этом (генеалогически не совсем корректно) на австрийскую ветвь семьи. И штаны со временем созревали. Время, воплотившееся в красоту, — вот что такое кожаные штаны.
Проедание купонов считалось нравственным долгом («не этим же оставлять!»), поэтому выбирать приходилось самые дорогие блюда. Поначалу мы чувствовали себя неудобно — джентльмен не разглядывает правую сторону меню…
— Если только, — воздевает палец отец, — он не имеет проблем с ликвидностью! Но это проблемы временные!
…В конце концов нами овладевает неведомое сладостное ощущение: головокружение от богатства. Ничего подобного мы раньше не испытывали, но привыкли довольно скоро. Богатство, как и бедность, быстро усвоили мы, накладывает на человека ограничения, и мы, например, не могли заказать овощной гарнир без мяса, а, скажем, только оленину на вертеле, что, разумеется, ущемляло нашу независимость — ну и ладно, пусть ущемляет! Родителям мы дали понять, что если они по каким-то принципиальным соображениям еще не решили, что богатым быть лучше, чем бедным, то для нас вопрос ясен.
Решено было даже лягушачьи ножки отведать!
Я был всецело за, брат категорически против, сестренке было до лампочки. Мы даже песенку вспомнили подходящую, но, поскольку она была не на том языке, нам велели замолкнуть.
— У Вирагов свет в избушке, жарят на обед лягушку, ту-ру-рум, ту-ру-рум, ту-ру-рум, шурум-бурум!
Мы-то думали, что эти Вираги бедные. Песня ведь как-никак — народная!
— А лягушка-то тухлая, — бросила вдруг сестренка, как ребенок из анекдота, которого до пяти лет считали немым. Мы потянули носами — и правда. С этим вынужден был согласиться даже отец, для которого несвежих продуктов вообще не существовало, он с удовольствием поглощал остатки вчерашней-позавчерашней еды, подгулявшие соусы, скисшее молоко и попавшие под подозрение яйца. Насчет яиц у матери было твердое мнение: несъедобно не только протухшее яйцо — достаточно подозрения, что оно несвежее.
— Все верно, оно должно быть не только идеальным, но и, как жена Цезаря, вне подозрений, — усмехался Папочка и пожирал подозрительное яйцо. Яйца он ел каждое утро и имел на то полное право, поскольку холестерина тогда еще не существовало.
Лягушачьи лапки, бедняжки, воняли. Возможно, в ресторане испортился холодильник, знаменитый «Саратов». Дома у нас тоже стоял «Саратов», гремел он, как трактор. Но какое значение имеет грохот, говорил отец, когда главное в холодильнике — холод, а по холоду русские хоть кому дадут сто очков вперед. Мать только пожимала плечами. Отсталая женщина — в душе она выступала за «Бош». Возможно, что холодильник тут был ни при чем, и лягушки — из революционных, а может, контрреволюционных соображений — протухли сами, лишь ради того, чтобы повредить доброй репутации социализма.
И цели своей достигли.
Наша мать, как всегда в таких случаях, хотела бы обойтись без скандала, но этого не хотел отец. Позднее, дома, мы с братишкой безуспешно репетировали тот легкий и в то же время весомый, элегантный и угрожающий, якобы ничего не значащий и в то же время изничтожающий жест, каким Папочка подозвал официанта и бросил ему какие-то слова, после чего тот с раздраженной и перепуганной миной умчался прочь и вскоре вернулся в сопровождении толстого и солидного человека.
Отец, сидя в невозмутимо царственной позе, держал паузу. Мы притихли, опасаясь, как бы Папочка не вышел из роли. Он подмигнул нам. Мамочка нервничала, что передалось и нам, не считая сестренки, любопытство которой всегда подавляло все прочие чувства.
— Это исключено, mein Herr, — еще издали затряс головой толстяк. Он производил впечатление человека, привыкшего повелевать, из той породы людей, с которыми лучше не связываться. Но что отец наш — из той же породы, мы видели впервые. — Совершенно исключено, mein Herr! — По-немецки он говорил довольно прилично и теперь ждал ответа отца. Мы — словно в кино, смотрим крутой боевик. Наш герой сталкивается с достойным противником, с настоящим, махровым мерзавцем, они смотрят друг на друга в упор, у нас от волнения перехватывает дыхание.
Отец элегантным жестом указывает на земноводных. Неприятель спокойно обозревает лягушек (мой братишка, кретин, начинает колупать свою в своей тарелке вилкой, мать шлепает его по руке) и смотрит вопросительно на отца:
— Nun ja?![157]
— Nun?! Ja?! Это вы говорите?! — заорал отец и, взвизгнув стулом, отъехал от стола; все уставились в нашу сторону. — Это все, что вы можете мне сказать, nun ja?.. это все, что может метрдотель, не так ли?.. фешенебельного, не так ли?.. будапештского, или это не Будапешт?.. ресторана… ответственное лицо… знаток своего дела… настоящий гурман, не так ли?.. черт возьми, что там было в начале фразы?!
Наш отец бушевал на вульгарнейшем венском диалекте, так что вряд ли кто понял хоть слово из всей его арии. В наступившем безмолвии он повторяет свой легкий жест:
— Вуаля, der Gstank! Воняет!
Мерзавец с величайшей осторожностью, словно необезвреженную мину, приближает к носу тарелку.