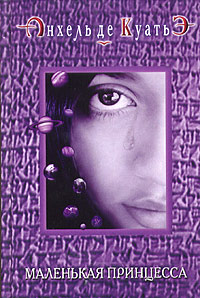Книга Река без берегов. Часть 2. Свидетельство Густава Аниаса Хорна. Книга 2 - Ханс Хенни Янн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я не знал, как мог бы выразить это — в своем «Свидетельстве» — лучше или по-другому. Мне казалось, что в процитированные строки полностью вместились моя неутешная печаль и ощущение собственного поражения; жалоба мертвого, навсегда утратившего надежду; и вопрошающее недоумение пока еще живого человека, который при первом же соприкосновении с мрачной всемогущей силой чувствует, что не может не покориться ей.
Эти строки, соответствующие моей боли, казалось, не хотели звучать: они были как голые последовательности звуков, которым отказано в праве парить в пространстве. Музыка, скорчившаяся на земле, в земном прахе… Позже я пробовал добавлять к этим текстовым строчкам другие нотные знаки — звуковые шаги, которые были мелодичнее, меньше оскорбляли расхожее мнение о том, чтó вообще можно петь. — Но через много лет я вернулся к первой редакции: порвал те нотные листы, на которых трагические строфы чуть-чуть мерцали. Только затрудненное, лишенное веры бормотание сродни моей душе, когда я думаю о смерти Тутайна — и о моей смерти — и о смерти всех.
После того как я снабдил нотами еще и первую таблицу «Эпоса»{422}, а обломки последней соединил светло сияющими мальчишескими хорами, я вдруг оборвал работу. Слово НАПРАСНО постоянно витало рядом с моими усилиями. Я не чувствовал себя избранным, чтобы давать какое-то новое толкование такому сознанию: такому человеческому сознанию, которое, воспламенившись любовью, обрушившись затем в черную боль, пытается перехитрить смерть… Мне казалось, моя боль, мое наслаждение… не сдвинут мир с места — они лишь тяжелы и серы, словно свинец. Мое песнопение — — —
Но я все-таки вовремя опомнился. Из фрагментов музыкального диалога между Гильгамешем и Энкиду возникла большая симфония{423}. Трубные сигналы, пригрезившиеся мне на мостовой Копенгагена{424}, открывают и то и другое произведение.
Словами не описать, какое изобилие фантастических видений, какие состояния опьянения, какой совокупный опыт работы, вдохновляемой горячей мыслью, могут пробудить во мне записанные нотные строчки. Я растратил свои годы на это не связанное с действительностью воодушевление. Растратил их, предаваясь расчетливым грезам, пытаясь отыскать отблеск далеких гармоний, насвистывая что-то себе под нос или проклиная себя. Порой мне казалось, я слышу те музыкальные громовые раскаты, которыми архангелы — как пряностями — приправляют эпохи. Та музыка, которую записывал я, всегда оказывалась более пресной. Лучшее в ней — абстрактное, едва-едва звучащее. Таков предусмотренный для меня закон.
Я хотел бы закончить начатое — и чтобы я делал свое дело лучше. Однако никто не может быть другим, чем он есть.
Мне никто по-настоящему не помогал в моем творчестве. Земля под моими ногами не пела вместе со мной. Море передо мной, чьи волны накатывают на песок, дарило лишь путаный звуковой шквал. Мелодии тысяч народных песен не звучали у меня в ушах. Я мог рассчитывать только на себя — как если бы был человеком, живущим в самом начале времен. Неуклюжим дикарем, имеющим под рукой только флейту с пятью тонами. (В Уррланде я однажды лежал на мостках, над водой, и чувствовал гальку на речном дне, крошечных юных лососей, собственные внутренности, ценность моей меланхоличной юности.{425})
Я хочу переписать сюда часть этих непродуктивных, неблагозвучных строк. Они отмечают границу моих возможностей.
Ноты.{426}
И повторяю: я ни в чем не раскаиваюсь. Даже сегодня — когда мои руки более пусты, чем были в дни надежд, — я хочу защищать себя. Потому что у меня есть только одно прибежище: моя жизнь, мои врожденные склонности.
* * *
Тутайн же
Дальше следуют несколько страниц, намеренно сделанных совершенно нечитаемыми. Слова были многократно зачеркнуты царапающим пером, а после даже закрашены черными чернилами. —
Я больше не увижу его, даже если бы опустился на дно моря. Я мог бы совершить странствие к Утнапишти{427}, но Тутайна я все равно не увижу. Мне дали увидеть его еще раз, по ту сторону отпущенного ему времени — в последний раз, — чтобы я склонился перед судьбой, признав, что все-таки и благие дýхи Универсума оказывали мне поддержку. Жалобы, прежде слетавшие с моих губ, были преждевременными. Мне позволили дойти досюда, неся жребий, обусловленный устройством моего организма. Дальше, правда — — никто мне ничего не обещает. Кажется, я вот-вот лопну: ибо я чувствую себя проклятым и все же благословенным.
* * *
Бог, будь он персоной, не мог бы разделить свою ответственность с человеком, даже с мыслящим или духовно богатым. Никакое живое существо не ответственно за то, что оно пожирает пищу и само будет пожрано, — как не ответственно и за характер или направление тоски по телесной близости, которая им овладевает. Никакое прегрешение не оправдывает тех страданий, на которые с самого начала обречены наши тела и тела животных, а также наш бессильный дух. Смерть — не воздаяние за грехи. Это конечный пункт телесного старения. Боль и разочарования должны постепенно отлучить нас от жизни. Всякая любовь в поздние годы — унижение нашей души: издевательство над самыми чистыми и красивыми помыслами. Ибо наше тело не станет достойным ответным даром для юноши, даже если тот пожелает быть с нами. Закон суров — но не по нашей вине. Бессмысленно измерять этот злой рок статистикой. Всё равно все, так или иначе, будут убиты.
Айи — — —
И опять вычеркнут целый длинный абзац, однако последнюю фразу в нем все-таки можно разобрать:
— — — — — — — Но, впрочем, я себе говорю: если молодой человек, вполовину моложе меня да к тому же хорошо сложённый, предлагает себя мне, старшему, то — кем бы он ни был — он приносит великий дар, оказывает безграничную милость; и все выдуманные требования в такой миг теряют силу.
* * *
Нет никаких сомнений: кто-то — кем бы или чем бы он ни был — сегодня ночью подходил к моей двери.