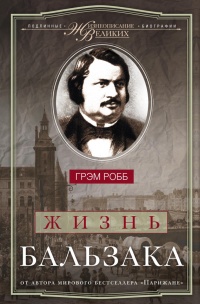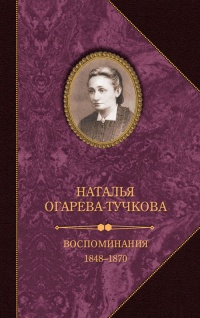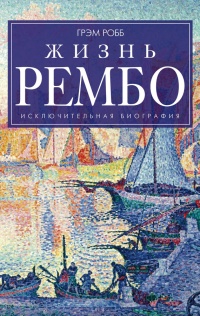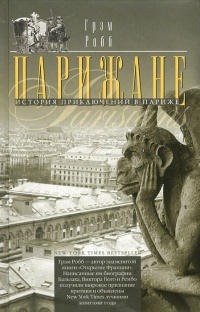Книга Жизнь Гюго - Грэм Робб
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Великий имиджмейкер пал жертвой других имиджмейкеров. В 80-х годах XIX века принято было считать Гюго во многом продуктом посмертного издания «Поступков и речей» (1889), книги, которую редакторы украсили приторными словесными виньетками. Последний раз Гюго появился на публике на приеме в честь детей Вёля (родина Мериса на побережье Ла-Манша) – приводится для того, чтобы нарушить слащавое единообразие, чтобы не топить Гюго в сладком сиропе: «Виктор Гюго садится, единственный „великий человек“ среди 74 маленьких гостей, за которыми ухаживают три дочери Поля Мериса». Устроили лотерею: «Судьба была умна. Первый приз достался бедной женщине с четырьмя детьми, вдове, которая больше не вышла замуж. Проливая слезы радости, она подошла получить приз вместе с малышкой, спавшей у нее на руках»{1413}.
«Очищенные» издания Гюго, сделанные Мерисом и Вакери и увековеченные в многочисленных переизданиях, демонстрируют воинствующее благоразумие, своего рода несгибаемость. Качество, которого, по мнению Гюго, недоставало творчеству Вольтера, – «уродство» – осторожно удалили из его собственного творчества, как раковую опухоль.
Избежать апофеоза было невозможно. После того как в 1880 году вышел последний указ об амнистии, Гюго больше не мог утверждать, что он представляет собой оппозицию из одного человека. Хотя он продолжал совершать странные поступки, например просил пощадить русских нигилистов и кабильских повстанцев в Алжире, его декларации оказывались достаточно неточными для того, чтобы потонуть в республиканской догматике. Гюго подарил Третьей республике мифологию: злой «старый режим» – Вторая империя; Парижская коммуна была дикой, но необходимой революцией. В наши дни кажется довольно точным мнение зятя Маркса, Поля Лафарга, который считал, что Гюго все время поддерживал буржуазные ценности и интересы. Он освещал мрак Второй империи факелом свободного предпринимательства и филантропического капитализма, защищая буржуазную идеологию, когда она стала неприемлемой для самой буржуазии{1414}. «Возмездие» и «Наполеон Малый» в конце концов стали двумя образцами коммерческого успеха. Банкиры платили целые состояния за первые издания этих книг.
В феврале 1881 года преходящую важность Гюго признали в величайшей народной дани, какую когда-либо отдавали живому писателю. 26 февраля ему исполнилось семьдесят девять лет, но все, с вполне уместным желанием забежать вперед, писали, что Виктор Гюго «вступил в восьмидесятый год жизни». Выбор даты явно был делом политическим. В прошлом праздник выпал бы на День святого Виктора, но дело происходило в современной, светской республике, где праздновали чисто языческий апофеоз{1415}.
Праздновать начали еще 25 февраля: Гюго преподнесли севрскую вазу, традиционный подарок для приезжающих в гости монархов, и все школьники, наказанные за какие-либо провинности, были прощены. На следующий день в театре «Гатэ» давали «Лукрецию Борджа», у входа на проспект Эйлау воздвигли триумфальную арку, а дом Гюго обнесли трехцветным знаменем. В палисаднике срубили платан, закрывавший вид.
Утром 27 февраля, в воскресенье, по проспекту Эйлау растянулась длиннейшая процессия – такой не видели со времен Наполеона Бонапарта. Процессия тянулась по Елисейским Полям, по набережным, до самого центра Парижа. Дешевые поезда везли подкрепление из провинции; в столицу приехало почти все население ближайших городков. Официальных гидов можно было опознать по розе и подсолнуху (отсылка к песенке Козетты из «Отверженных»). Любопытно, что юбилей Гюго устраивали те же, кто в свое время проводил пышные шествия Наполеона III.
Невзирая на лютый холод и метель – вихри неслись по проложенным Османом широким проспектам – процессия вышла в полдень. Через шесть часов перед Гюго прошло свыше полумиллиона человек. Он сидел у окна с Жоржем и Жанной, которым велел сохранить это зрелище в памяти. Время от времени он выходил на балкон. Многие заметили, что в глазах у него стояли слезы.
Сначала шли сенаторы и депутаты, затем группа детей со знаменем, на котором было написано «Искусство быть дедом». Пять тысяч музыкантов исполняли «Марсельезу». Шли делегации от городов и округов, в которых Гюго никогда не был, Демократический союз антиклерикальной пропаганды, «Друзья развода», все парижские школы, члены двадцати гимнастических клубов в трико, группа наборщиков, которая несла старый ручной пресс, – утверждали, что на нем набирали первые стихи Гюго. Мимо дома проехал огромный торт с фигурками из произведений Виктора Гюго.
К тому времени, как на улицах зажглись фонари, дом Гюго ломился от флагов и свежих цветов (дело было в феврале). Когда показалась группа с плакатом «Муниципальный суд Парижа», Гюго встал и произнес несколько слов: «Я салютую Парижу. Я салютую огромному городу. Я салютую Парижу не от своего имени, ибо я ничто, но от имени всех жителей Земли, которые живут, рассуждают, думают, любят и надеются». Такого рода речь он мог бы написать даже во сне – на самом деле иногда так и было{1416}. Самая значимая фраза проскочила ближе к концу, хотя кажется, что она прошла незамеченной даже для католической прессы: «Тот, кто говорит с Парижем, говорит со всем миром. Urbi et orbi». Гюго подмигивал своему сопернику в Ватикане.
Празднования проводились и в других французских городах, в том числе в его родном Безансоне, где наконец договорились, в каком именно доме родился Виктор Гюго. Две тысячи телеграмм прибыли из таких мест, которые не сразу удавалось отыскать на карте. Французский делегат от Интернационала подарил Гюго два огромных тома с 10 тысячами подписей. Прибыла делегация и от ирландских республиканцев; они благодарили Гюго за постоянную поддержку{1417}. Отчасти поэтому официальных посланий от королевы Великобритании не было, хотя все знали, что лауреат, лорд Теннисон, в 1877 году послал к Гюго своего сына с ужасным сонетом, объявлявшим Гюго «победителем (Виктором) в поэзии, победителем в романе»:
С конца Второй империи Гюго сравнивал себя с Вольтером, и не только из-за его гуманизма, но и из-за его триумфального возвращения в Париж в 1778 году. С точки зрения статистики Гюго превзошел Вольтера. Ни один писатель не видел лицом к лицу стольких своих читателей. Десять недель спустя его отрезок проспекта Эйлау был переименован в проспект Виктора Гюго, а расположенный рядом перекресток назвали площадью Виктора Гюго. Адрес на письмах, приходивших отовсюду, теперь можно было надписывать так: «Виктору Гюго, проспект его имени».