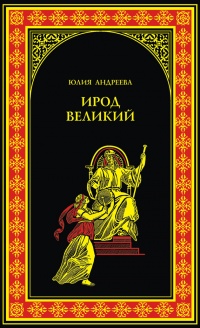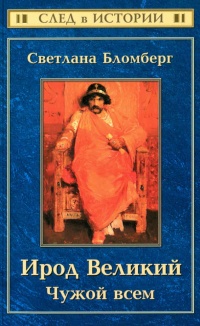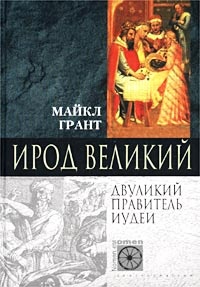Книга Проклятие Ирода Великого - Владимир Меженков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Антипатр при этих словах, заметил Ирод, посмотрел на Ливию и кивнул ей головой, как бы подтверждая обоснованность обвинения отца, а большие синие глаза обоих его сыновей засверкали от навернувшихся на них слез.
– Горе мое, – снова обратился Ирод к одному лишь Августу, – я долгое время таил в себе, и только теперь, когда о нем стало известно не только во всей Иудее, но и в других странах, включая Италию, я осмелился выплеснуть его перед тобой, Цезарь, рискуя навлечь на себя твой гнев за оскорбление твоего слуха. Пусть скажут Александр и Аристовул, подверглись ли они хоть раз какому-либо стеснению с моей стороны? Пусть скажут, был ли я когда-нибудь несправедлив и жесток с ними? Как же смеют они оспаривать у своего отца право на власть, которую сам я, и это, Цезарь, известно тебе лучше, чем кому-либо другому из присутствующих, достиг после долгих трудов и опасностей? – Ирод почувствовал в горле ком, который мешал ему говорить; он боялся посмотреть в сторону своих и Мариамны детей, чтобы самому не расплакаться от жалости и любви к тем, кого он сейчас обвинял перед Августом в самом страшном преступлении, какое только можно представить себе, – в намерении совершить отцеубийство. – Как они смеют мешать мне пользоваться своей властью и предоставить ее тому, кого я сочту достойным? – Ирод усилием воли сдерживал слезы, готовые вырваться из него. – Ведь такая награда, наравне со всякой другой наградой, выпадает на долю лишь тех, кто заслужил ее своим благочестием. Между тем все их интриги, направленные против меня, не могут быть названы не только благочестивыми, но и попросту приличными. Те, кто только и думает об узурпации власти, тем самым рассчитывают и на смерть отца своего, который обладает этой властью; иначе им этой власти не достичь. Сам я до сих пор давал всем своим подданным и в особенности царственным детям моим в изобилии все, в чем они нуждались. При этом я во всех своих поступках руководствовался лишь одним: заботой не только об их образовании и содержании, но и дав им в жены прекрасные партии – одному дочь царя Архелая, а другому дочь сестры моей. При таких обстоятельствах я не воспользовался данным мне законом правом самому решить их судьбу, но решился представить своих сыновей на суд нашего общего благодетеля. Отказавшись ото всего, на что имеет право оскорбленный отец и подвергшийся козням царь, я готов выслушать твое решение, Цезарь, и поступить сообразно ему.
Ирод закончил и сел на подготовленный для него стул, лишь теперь бросив взгляд на сыновей. Оба они не сдерживали слез, катившихся из их прекрасных, как у матери, глаз. Весь их вид говорил о том, что они никогда и в мыслях не держали ничего из похожего на то, в чем обвинил их перед Августом отец. Казалось, они желали теперь не столько того, чтобы оправдаться перед императором, сколько узнать правду о том, кто стал виновником выпавших на их долю обвинений.
Август, все это время молча сидевший в судейском кресле и внимательно слушавший Ирода, зябко кутаясь в обе тоги, легким движением головы показал, что ему ясны обвинения его друга, выдвинутые против сыновей. От его внимательного взгляда не укрылось, что не только большинство присутствующих жалеют юношей, которых успели узнать и полюбить за годы учебы, проведенные в Риме вместе с их детьми, но и сам Ирод испытывает к своим сыновьям сострадание. Хриплым из-за простуды голосом он произнес:
– Теперь я хотел бы выслушать тех, кого царь Иудеи и мой друг обвинил в безбожном намерении. Кто из вас начнет первым?
Младший Аристовул разрыдался в голос; в силу своей неопытности и из-за смущения, охватившего его, он не знал, что говорить. Старший Александр, усилием воли совладав со слезами, поднялся со своего места и обратился к отцу со следующей речью [401]:
«Отец! Расположение твое к нам подтверждается уже всем эти делом; ведь если бы ты замышлял против нас что-нибудь ужасное, ты не привел бы нас к тому, кто является общим спасителем. Тебе, в силу твоей царской и отцовской власти, было вполне возможно расправиться с людьми, тебя обидевшими. Но то, что ты привел нас в Рим и посвящаешь императора во все это дело, служит гарантией нашего спасения. Ведь никто не поведет того, убить кого имеет в виду, в святилище и храмы. Но наше положение отчаянное: мы не желали бы оставаться долее в живых, если во всех укоренилась уверенность, что мы посягали на такого отца. Еще хуже было бы, если бы [мы] предпочли безвинной смерти жизнь, оставаясь в вечном подозрении. Итак, если наше сознание, что мы говорим правду, имеет некоторую силу в глазах твоих, нам доставило бы блаженство возможность единовременно убедить тебя в своей невиновности и избегнуть грозящей нам опасности; но если все-таки клевета удерживается на месте, то к чему нам солнце, на которое мы взирали бы, запятнанные подозрением? Конечно, указание на то, что мы стремимся к власти, является достаточно ловким обвинением по отношению к таким молодым людям, как мы, а если к тому еще присоединить упоминание о нашей достойной матери, то этого вполне достаточно, чтобы усугубить первое наше несчастье и довести нас до настоящего горя. Но взгляни на то, не общий ли этот случай и не применимо ли подобное обвинение в сходных случаях. Ведь ничто никогда не мешает царю, у которого есть молодые сыновья, мать коих умерла, видеть в них подозрительных лиц, домогающихся престола своего отца. Однако одного только подозрения не довольно, чтобы высказывать столь безбожное обвинение. Пусть кто-либо осмелится сказать нам, что случилось нечто такое, в силу чего при всем легковерии людей нечто невероятное стало непреложным. Разве кто-либо смеет обвинять нас в составлении отравы, или совершении заговора среди сверстников, или в подкупе прислуги, или в распространении воззваний против тебя? И все-таки каждое из таких преступлений, даже если оно и не имело места, легко служит предметом клеветы. Правда, отсутствие единодушия в царской семье является крупным несчастьем, и та власть, которую ты называешь наградой за благочестие, часто вызывает в гнуснейших людях такие надежды, ради которых они готовы не сдерживать своих дурных наклонностей. Никто не сможет упрекнуть нас в чем-либо противозаконном. Но как устранит клевету тот, кто не желает слушать? Быть может, мы сказали что-либо лишнее?
Если это так, то, во всяком случае, это не относилось к тебе, ибо это было бы несправедливо, но относилось к тем, которые не умалчивают ни о чем сказанном. Кто-либо из нас оплакивал свою мать? Да, но мы жаловались не на то, что она умерла, а на то, что и после смерти она подвергается поруганию со стороны недостойных людей. Обвиняемся мы в том, что стремимся к власти, которая, как нам известно, в руках отца нашего? Но с какой стати? Если, как это и есть на самом деле, мы пользуемся царским почетом, разве мы стараемся не напрасно? Или если мы им еще не пользуемся, то разве мы не можем впоследствии рассчитывать на него? Или неужели мы стремились захватить власть, уничтожив тебя? Но после такого злодеяния нас не несла бы земля и не держало бы море. Разве благочестие и религиозность всего народа допустили бы, чтобы во главе правления стали отцеубийцы и чтобы такие люди входили в священный храм, тобой же сооруженный? Далее, наконец! Оставя в стороне все прочее, разве мог бы, пока жив император, оставаться безнаказанным какой-либо убийца? Сыновья твои не так безбожны и безумны, но, право, они гораздо несчастнее, чем бы следовало для тебя. Если же у тебя нет поводов к обвинениям, если ты не находишь козней, что же укрепляет тебя в уверенности совершения такого страшного преступления? Мать наша умерла. Но ее судьба не могла нас восстановить против тебя, а лишь сделала нас более рассудительными. Мы хотели бы еще многое привести в свое оправдание, но у нас нет слов для этого, так как ничего не случилось. Поэтому мы предлагаем всемогущему Цезарю, являющемуся в настоящую минуту судьей между нами, следующий исход: если ты, отец, вновь желаешь относиться к нам без подозрительности и верить нам, то мы готовы оставаться в живых, хотя, конечно, уже не будем по-прежнему счастливы, ибо среди крупных несчастий одно из наиболее тяжких – быть ложно обвиненным; если же у тебя еще есть какое-либо опасение относительно нас, то спокойно принимай себе меры к ограждению своей личной безопасности, мы же удовлетворимся сознанием своей невиновности: нам жизнь вовсе не так дорога, чтобы сохранять ее ценой беспокойства того, кто даровал нам ее».