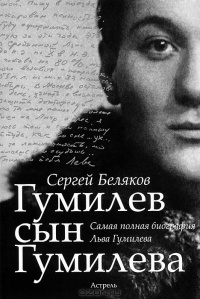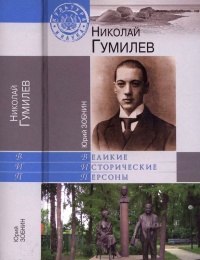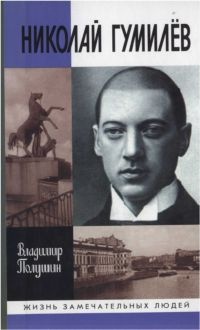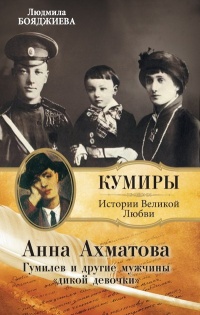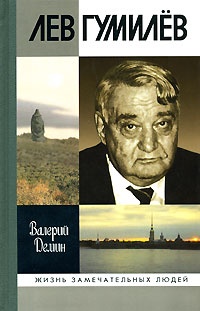Книга Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Помню холодную полутемную столовую, где вокруг обеденного стола сидели поэты…. После чаепития Сологуб, Блок и Кузмин ушли, председательствовать остался Гумилев — я узнала его резкий и насмешливый голос. Когда очередь дошла до меня, он предложил прочесть новое стихотворение. Не задумываясь, я прочла только что написанное — довольно наивное, но по тому времени, может быть, показавшееся многим кощунственным. Начиналось оно так:
Почти всем выступающим аплодировали, даже самым слабым. Но когда я прочитала эти стихи, наступило грозное молчание… Гумилев встал и демонстративно вышел. Вдруг с противоположного конца стола встала какая-то очень красивая молодая женщина, размашистым шагом подошла ко мне и, по-мужски пожав и тряхнув мне руку, сказала: «Я вас понимаю, товарищ. Стихи очень хорошие».
Это была Рейснер.
(В стихотворении Полонской «младенец Иисус» отвергается ради иудейского, ветхозаветного Бога, но Рейснер, в чьем сознании Маркс смешался с Ницше, в такие тонкости не вникала — для нее достаточно было, что стихи антихристианские.)
Возможно, что появление таких «союзников» и побудило большинство членов Союза убрать из президиума Павлович и ее друзей. Их раж мог быть просто небезопасен для остальных, не столь лояльных. Правда, Рейснер вскоре отправилась (в связи с дипломатической службой мужа) в Персию, а потом в Афганистан, а Городецкий — в Москву и в Закавказье, но их публичные выступления и высказывания летом и осенью 1920 года были опасным сигналом.
События развивались так.
12 октября состоялись перевыборы Президиума союза. Как указывает Павлович, «забаллотировали Шкапскую, меня, Сюннерберга». Но из президиума были также исключены близкий Гумилеву Николай Оцуп и Всеволод Рождественский (который, вопреки свидетельству Павлович, был скорее нейтрален).
Блок сложил с себя полномочия, но на следующий день к нему явилась делегация во главе с Гумилевым и упросила его остаться в должности.
Через восемь дней состоялся вечер в клубе Союза поэтов (в Доме Мурузи), на котором Блок присутствовал. Любопытна его дневниковая запись об этом вечере:
Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.
Гвоздь вечера — И.[156] Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыносимо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь, «жидочек» исчезает[157], виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в области искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется только Оно.)
Эти слова Гумилева, зафиксированные его великим оппонентом, часто сопоставляли со знаменитыми строками его «Слова»; стоит вспомнить и «Дракона», и — но об этом мы уже упоминали — «Утро акмеизма» самого Мандельштама, в связи с которым и возник этот столь любопытный разговор.
По свидетельству Одоевцевой, Мандельштам был чрезвычайно взволнован хвалебным отзывом Блока, и он все выспрашивал у Гумилева и Лозинского: Блоку действительно понравилось? Не из любезности похвалил он?
Как видим, стихи «жидочка» действительно понравились Александру Александровичу. А остальные?
Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами. Грушко подшлепнутая. У Нади Павлович больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.
Так обстоит дело в декабре. Но уже через четыре месяца Блок пишет статью «Без божества, без вдохновенья» — один из самых резких и грубых текстов, направленных против Гумилева и акмеизма, и, вероятно, самый резкий и грубый текст, вышедший из-под пера Блока. Что же произошло за эти месяцы?
В декабре был создан новый — третий — Цех поэтов. К февралю был составлен (и издан тиражом 20 экземпляров) гектографический сборник «Новый Гиперборей». А уже в марте в новосозданном Я. Н. Блохом издательстве «Петрополис» увидел свет альманах «Дракон» — издание Цеха поэтов, задуманное периодическим[158]. Гумилев напечатал в нем «Слово», «Лес», «Дракона» и статью «Анатомия стихотворения», своего рода квинтэссенцию лекционного курса в «Живом слове» и Диске, конспект так и не написанной «Интегральной поэтики». Состав альманаха в целом был едва ли не сильнее, чем у любого номера «Гиперборея». Достаточно сказать, что Мандельштам был представлен Tristia, «Черепахой» и статьей «Слово и культура» (в последующих двух номерах альманаха были напечатаны такие прославленные его стихи, как «Веницейской жизни мрачной и бесплодной…», «За то, что я руки твои не сумел удержать…», «Чуть мерцает призрачная сцена…», «Мне Тифлис горбатый снится…»).
Александр Блок. Последний портрет. Фотография М. С. Наппельбаума, 1921 год
Возможно, именно возвращение Мандельштама подтолкнуло Гумилева к мысли о возрождении Цеха. В 1920 году впервые за несколько лет пять из шести акмеистов (кроме Нарбута) собрались вместе «на берегах Невы». Правда, Городецкий стал врагом, а Ахматова предпочитала держаться особняком. Оставались Мандельштам, Зенкевич (живший в Самаре и бывавший в столице наездами) и «молодежь» — Адамович, Иванов, Одоевцева. Кроме них, еще один молодой поэт стал близким сподвижником Гумилева в последние годы — Николай Оцуп. Сын царскосельского фотографа, бывший студент Сорбонны, он был смолоду довольно колоритной фигурой, воспоминания о нем разноречивы. Вот некоторые из них.
Оцуп был замечателен тем, что временами исчезал из столицы, и, возвратившись, приносил откуда-то из дальних краев такие драгоценности, как сушеная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой — это звучало как чудо — двадцать или тридцать кусков сахару. Не все привезенные яства поглощал он один. Кое-какие из них приносил он в красивых пакетиках, перевязанных ленточками, высокодаровитым, но голодным писателям, получая от них в обмен то балладу, то сонет, то элегию (К. Чуковский. Чукоккала).