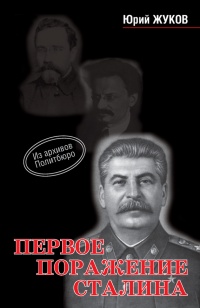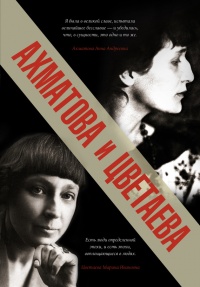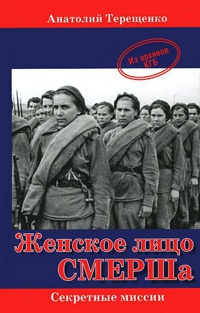Книга Воспоминания - Анастасия Цветаева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ася, вы, конечно, голодны. Аля, принеси – там есть хлеб. И поставь на огонь суп с бараньей ногой. Это из академического пайка! И еще есть пшенная каша. Андрюша похож на Бориса! Господи, до сих пор не верю! Не могу свыкнуться. Мария Ивановна еще там? Приедет? Дочка ее какая? На кого похожа? Светлая, как он?
И, ломая и режа большой кусок хлеба, раздавая, подвигая тарелки с супом, она рассказывала вперемешку, как всегда бывает после разлуки, ближнее, давнее, большое, случайное.
– Не помог никто! Когда умирала Ирина. Бывшие друзья катались в колясках со своими дельцами (дельцы и тогда были). Была одна мороженая капуста. Чтобы детей взяли в красноармейский приют, я должна была подписать бумагу, что это беженские дети, что я их нашла у своей квартиры. Взяли, и там их кормили. Но Ирине уже было поздно…
– Ешь, Андрюша, еще есть. И ты, Ася. Академический паек! Мне дали его после смерти Ирины… Пять раз в день я напихивала Алю пшенной кашей – больше ничего не было. Спасла Алю за счет Ирины. Двоих – не могла. Аля как более крепкая выжила. Три болезни у Али сразу: чесотка, малярия, воспаление легких. Аля, не смей оставлять в тарелке. Ешь все! Кажется, уже солнце!
На Марине был коричневый с татарским узором шушун, такие делала Пра, в талии стянутый ремнем, длинная темная юбка; на ногах – проношенные линялые туфли.
– Мариночка, я умею делать туфли из материи, с подошвой из бечевки – очень крепкие; сделаю тебе непременно! – с восторгом говорю я.
– Правда? Спасибо. Не стоит трудиться, старье – есть… – равнодушно говорит Марина. – Я собираю два сборника лирики – «Версты», «Царь-Девица», сказка в стихах, готова о Казанове пьеса.
Я слушала. Голова чуть кружилась от давно не испытанной сытости. На Андрюшиных щеках проглянул румянец.
– У него сонные глаза, – весело сказала Марина, – рано уложим их, запрем дом и пойдем к Ланну. Дождь? Чепуха. Я шла по воде – босиком. Легче. Даже приятно. Так глубоко, как в Оке, входишь, иначе все равно не пройти…
Странное зрелище являла собой Москва в тот наш первый с Андрюшей день в ней после четырех лет отсутствия! Вряд ли я узнавала улицы, ставшие потоками, оглушительно слетавшими в решетки водостоков, но их бурно заменяли следующие потоки, и им не было конца. Мы шли босиком, как и многие, и был везде смех и взмахи обувью в воздухе, и не помнилось ничего в этой внезапной метаморфозе города – ни разрухи, ни голода, ни пережитых лет Гражданской войны, было вдруг настоящее детство, невиданность и веселье.
Мы не шли, а летели. Разорванность туч над нами, мчавшихся, как мы, была провалом в бесконечность. Мы вступали в покатую реку Столешникова переулка; поворачивая вслед за Мариной к Ланну, я упрямо помнила: Николин день! (где Миронов?)
И вот уже чинная лестница давно мной не виданных многоэтажных домов. И в ответ на звонок – господи, существуют звонки! – на пороге тонкий изогнутый силуэт Евгения Ланна, друга нашего, поэта и переводчика. Профиль – извилистость, горбоносость, взлетающая в нежной ироничности над своей радостью бровь; поцелуй, церемонный, Марининой и моей рук, чернота почти до плечей отросших волос, и за ним облик строгого ангела – улыбка золотых глаз, каштановый строгий пробор: Александра Владимировна Кривцова, его жена.
Мы за чистым чайным столом – чашки с блюдцами, тарелочки, хлебница и в молочнике – молоко, все как встарь. И это, наверное, сон снится – на тарелке горка хлеба, намазанного – маслом (?) и другая тарелка – с повидлом. И пьем настоящий, как в детстве и юности, чай. В стаканах – золотым столбиком. Как рады нас угостить! Не «угостить» – кормят! Несет нам жена Ланна на тарелках по куску настоящей яичницы, а чай из золота стал светел, как те опалы, что мы собирали на берегу Коктебеля два года назад, они оба и я, когда мы ничего не знали о Марине тоже уже два года…
Пьем, едим, разогретые – о, не одними едой и питьем, – кейфуем когдатошней изысканной речью, полузабытой за годы разрухи. Глаз пирует видом стройных рядов книг, портрет Диккенса со стены – они оба продолжают учиться английскому, уже хорошо знают его. Будут переводить Диккенса.
Стихи! Марина читает, и я, занемев, слушаю. Одно за другим.
– Ася, я тебе это не посылала? А это?
Марина поднесла ко рту потухшую папиросу, вынула из сумки, висевшей через плечо, зажигалку, долго крутила рывками колесико – не загоралась. Ланн подносил ей спичку; но уже засинел, заалел жиденький огонек фитилька, Марина нагнулась с папиросой сразу к двум огонькам. Она дунула на спичку и закрыла привычно керосиновый фитилек, передернула ремень у плеча (почти почтальонской сумки) и, затягиваясь, прошла по комнате.
Она продолжала:
– Стихи восемнадцатого года! – сказала она отсутствующе, с холодком. Марина замолчала, мы переждали – не скажет ли еще, заговорили. Просили еще.
– Что-то всё давние в голову идут! Тоже восемнадцатого года. (Не затем ли говорит это, подумалось мне, чтобы подчеркнуть: не Ланну – другим…)
Марина уже читала:
– Вот еще что смогу сказать, коротенькое. – И, отведя руку с зажженной папиросой, и над ней шел дымок, совсем другим темпом, другой интонацией, тем же колдовским своим голосом – медленно, после той струнной спешки:
Кто-то из нас – не Ланн ли – сказал, что эти последние – лучшие из сказанного сегодня. И было немножко скрытой иронии в движении головы Марины в сторону говорившего. Словно гильз в сумке, был у нее нескончаем запас – лучшего! – на просьбы «еще», но она не сказала ни слова, кроме краткого «хватит!», – и села поближе к лампе, раскрыв на коленях свою «почтальонскую» сумку, и под нашу беседу стала набивать табаком – палочкой вроде тампона – гильзы. Стихов Ланна, трудных, нелирических, неуютных, «филологических», – совершенно не помню.