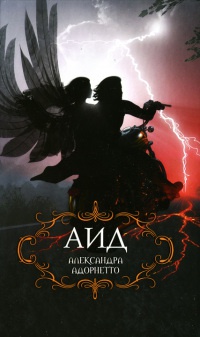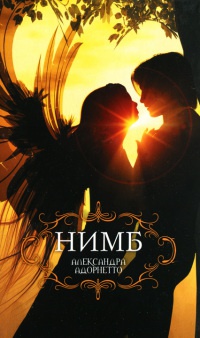Книга Тебе держать ответ - Юлия Остапенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Ты — оспа, Алекзайн, — подумал Эд, глядя на приближающееся багряное пятно. — Ты зараза, ты чума, которая проникла в моё тело и разум и захватила их. Но ведь ничто не мешает рабу убить своего хозяина. Не затем, чтобы освободиться… Просто за то, что я тебя ненавижу».
Да, он ненавидел её. Никогда об этом не думал так, но — ненавидел. За многое, но больше всего — за то, что она сказала: «Теперь можно», и поцеловала его губами девушки-роолло именно тогда, когда он совсем этого не хотел.
Она всегда вторгалась в его жизнь тогда, когда он этого не хотел, а не тогда, когда действительно в ней нуждался.
Ворота перед домом были распахнуты настежь — как и прежде, их не запирали. Толстая немолодая женщина с сильной проседью в волосах развешивала на верёвках бельё, пыхтя и отдуваясь — каждое движение явно давалось ей с трудом. На земле у её ног возились трое чумазых детишек — один лепил куличики из грязи, двое других упоённо ими швырялись. Женщина шикала на них и была щедра на подзатыльники, но не делала ничего, чтобы унять детвору по-настоящему. Только когда один из малышей пригнулся, и летевшая ему в лицо лепёшка смачно шмякнулась на трепетавшую по ветру белоснежную простыню, женщина гаркнула: «Джон! Ах, паскудник!» — и, схватив за ухо того малыша, в которого метили лепёшкой — то есть ни в чём, в общем-то, не повинного, — шлёпнула его со всей силой суровой материнской любви. Мальчишка заверещал, и под этот пронзительный вопль Эд ступил во двор дома, который совсем не изменился и так изменился с тех пор, как он был здесь в последний раз.
Ему хватило беглого взгляда вокруг, чтобы оценить обстановку. Не считая многодетной мамаши и собаки, тут же подбежавшей, чтобы облаять Эда, двор был пуст, если не сказать — запущен. У колоды для рубки дров валялась поломанная оглобля, словно кто-то взялся чинить и бросил дело на половине.
— Эй, сударыня, — окликнул Эд женщину, всё ещё лупившую вопящего ребёнка и полностью поглощённую этим ответственным делом. Двое других, отбежавших от матери подальше, тут же обернулись и уставились на Эда со смесью детского любопытства и взрослого подозрения. Судя по всему, они жили здесь и нечасто видели других людей.
— Сударыня! — повторил Эд громче, и женщина, наконец выпустив сына, который тут же дал стрекача, повернулась к нему. Лёгкое удивление, появившееся на её лице, задержалось не долее чем на миг.
— Чего вам? — Голос у неё был низкий и хриплый, как у человека, часто и неумеренно прикладывающегося к бутылке. — Вы, сударь, чай, к Гилберту? Так его нет. Третьего дня ещё уехал в Пронтхолл на рынок и вернётся не раньше будущей недели.
— Гилберт? — вырвалось у Эда. Неподвижное лицо, стальные глаза под кустистыми бровями, свист бича, кровь — неправильная кровь, не там, не так… — Он всё ещё работает здесь?
— Ну а куда ж ему деться-то. Вы если за тем седлом, так я и сама вам отдать могу. Я жена его. Он сказал, если придёте…
— Я не за седлом, — перебил Эд. — Я хочу видеть вашу хозяйку. Леди Алекзайн.
Женщина, уже повернувшись было к Эду спиной, взглянула ему в лицо. Сам не зная почему, он отвёл взгляд. Лицо у неё было красным, припухшим от пьянства и, как сильно подозревал Эд, от мужниных побоев. Видят боги, Эд Эфрин не был ни чрезмерно стыдлив, ни сверх меры сострадателен, но, глядя на эту женщину, он испытывал ему самому непонятный стыд — так, словно был в ответе за неё и за то, чем она была.
— Леди, — повторила служанка. — Вот оно как…
— Надеюсь, она дома? Я проделал долгий путь, чтобы её увидеть.
— Дома, а то как же… Только вряд ли она вас примет. Вам бы, может, лучше хозяина повидать?
— Хозяина? — Эд был сбит с толку. Впрочем… а почему бы и нет? Алекзайн молода и красива — она могла выйти замуж.
Кто-то подёргал его за отворот сапога. Эд посмотрел вниз — и едва не вздрогнул от свирепого окрика женщины:
— Джон! А ну лапы свои прочь от благородного господина! И вы двое, а ну пошли вон, на задний двор. И пса заберите. Носа не казать, пока не позову!
Под весь этот шум и гам малышня наконец убралась со двора, забрав с собой скулящую и вырывающуюся собаку. Как это было странно… Если Эд знал Алекзайн хотя бы немного — она никогда не стала бы терпеть у себя в доме подобного гвалта. И Вилма, и даже Гилберт, когда Алекзайн была здесь, ходили на цыпочках.
Эд сказал:
— Да, если возможно, пожалуй, я бы повидал вашего хозяина, господина…
— Тома, — закончила она за него. — Я схожу, позову его.
И прежде чем Эд успел сказать хоть слово, окно наверху со стуком распахнулось, и отрывистый мужской голос, который Эд узнал бы и через тысячу лет, крикнул:
— Вилма! Поднимись! Сейчас же!
— Господин Том! — запрокинув голову, крикнула та в ответ. — А тут пришли к вам! Уже иду! Вы простите, сударь, — сказала она Эду, повернувшись к нему и простодушно взглянув на него своими глазами — карим и зелёным. — Обычно-то гостей муж привечает, а тут я теперь одна… У него это лучше выходит, да и редко у нас гости. Вы идите в дом, я сбегаю узнаю, что там, заодно господину Тому про вас скажу.
«Вряд ли в этом есть надобность», — хотел сказать Эд и не сказал. У него язык словно присох к нёбу. Он хотел посмотреть наверх. И не мог, потому что его собственный взгляд был намертво прикован к женщине, торопливо ковылявшей к дому. Обрюзгшей, некрасивой, потасканной женщине, выглядящей на десять лет старше своего настоящего возраста, женщине, избегавшей смотреть в глаза собеседнику — потому что она знала, какое впечатление обычно производят её глаза, разные, как у самого Молога… Женщине, вышедший замуж за человека, который бил её плетью по приказу их госпожи. Женщине, которая когда-то, безумно давно, прижалась к его губам горячим жадным ртом и научила его быть мужчиной…
Нет. Нет, не научила. Потому что уже на следующий день он бросил её, избитую, истерзанную из-за него. Бросил маленькой и одинокой, оставил лежать на узкой койке лицом вниз… Она прятала лицо в сгибе локтя — так, словно ей было стыдно… стыдно за него.
Она его даже не узнала.
«Ничего не меняется, — подумал Эд. — Она всё ещё здесь. И я тоже. И Алекзайн. И даже Том».
Он подошёл к дому, преодолевая себя для каждого шага, и, перешагнув порог, ступил в холодный сырой мрак жизни, которую когда-то так легко позволил у себя отнять.
Дом, как и прежде, производил впечатление призрака. Эд ощущал на лице солёный морской ветер, который заносило в коридоры сквозняком. Все двери раскрыты, и ни в одну не хочется входить, потому что глубоко запрятанным инстинктом знаешь, что ничего хорошего ни за одной из них тебя не ждёт. Отчасти это было похоже на чувство, которое он испытывал, входя в покои конунга в Сотелсхейме — в комнату, из которой мог выйти прямо на плаху. Стуча в дверь конунга, Эд каждый раз вспоминал ту ночь, когда Алекзайн позвала его к себе и он, войдя, увидел её в спальне обнажённой, зовущей и отталкивающей одновременно… Ужас, непонимание и восторг, слитые воедино.