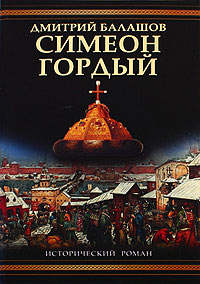Книга Записки князя Дмитрия Александровича Оболенского. 1855 – 1879 - Дмитрий Оболенский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нет таких и слов, чтобы заклеймить по достоинству это предательство, эту измену историческому завету, призванию и долгу России. Согласиться на такое решение — значит подписать свое самоотречение как главы и верховной представительницы славянского и всего восточнохристианского мира, значит утратить не только свое обаяние, не только сочувствие, но и уважение славянских племен, наших естественных, наших единственных союзников в Европе. Свобода, самобытное развитие и преуспевание духовных стихий для славян только в единении любви с русским народом… Иначе решает русская дипломатия. Для того только православный русский народ, единый, могучий и независимый из всех славянских народов, для того только и пролил ты свою драгоценную кровь, принес в жертву сотни тысяч твоих сынов, для того ты разорялся и временно обнищал, стяжал себе поистине венец страстотерпца и мученика, чтобы собственными победами унизить себя как славянскую державу, расширить владения, умножить силу врагов твоих и всего славянства и подчинить православных славян господству немецкой и католической стихии… Напрасный мученик, одураченный победитель, — полюбуйся на свое дело…
Если во время Константинопольской конференции мы говорили в таком же собрании, что щеки пылают у России от получаемых ею пощечин, что же сказать теперь, при этих ежедневных, торжественных заушениях?
А русские дипломаты, если верить газетам, только расписываются в получении и просят взамен для России лишь аттестата о «бескорыстности». Поистине бескорыстно, и в аттестате им не отказывают.
Слово немеет, мысль останавливается, пораженная перед этим колобродством русских дипломатических умов, перед этой грандиозностью раболепства… Самый злейший враг России и престола не мог бы изобрести чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Вот они, наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни предания, которые, как нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и К°, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого национального чувства. И те и другие — иностранцы в России и поют с чужого европейского голоса; и те и другие чужды своего народа, смотрят на него как на Tab и 1 a rasa[374], презирают его органические духовные начала, стараются сдвинуть его с пути, заповеданного ему историей, и направить насильно на путь противоестественный. Все они — близкая друг другу родня, порождения одного семени, хотя и различествуют бытом, воспитанием и нравом, доктринами и, главное, степенью самосознания. Предоставляю вам самим решить, кто же, однако, из них, сознательных и бессознательных, грубо анархических и утонченных государственных нигилистов, — в сущности, опаснее для России, для ее народного духовного преуспевания и государственного достоинства.
Неужели же, в самом деле, Турции, грозящей в своем смелом сопротивлении обратить в ничто всемудрый Конгресс, суждено явиться ангелом-спасителем русской чести?
Нет, что бы ни происходило там, на Конгрессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и властен ее вечный оберегатель, он же и мститель… Если в вас, при одном чтении газет, кровь закипает в жилах, что же должен испытывать царь России, несущий за нее ответственность перед историей? Не он ли сам назвал дело нашей войны «святым», не он ли, по возвращении из-за Дуная, объявил торжественно приветствовавшим его депутатам Москвы и других русских народов, что святое дело будет доведено до конца? Страшны ужасы брани, и сердце государя не может легкомысленно призывать возобновления смертей и кровопролития для своих самоотверженных подданных, но не уступками в ущерб совести и чести могут быть предотвращены эти бедствия. Россия не желает войны, но еще менее желает позорного мира. Спросите любого русского из народа, не предпочтет ли он биться до истощения крови и сил, только бы избежать сраму русскому имени, только бы не предать христиан-братьев… Еще не стыдно уступить превосходной соединенной силе врагов, после долгих героических побоищ, как уступили мы в 1858-м году, без урона для своей славы, как уступила недавно Франция. Но уступать предупредительно, без боя и выстрела, это было бы уже не уступкою, а отступничеством. Да и кто бы в Европе действительно теперь отважился на войну? Не Англии же, в самом деле, с ее индийскими чудищами можем мы опасаться на суше, а от войны на море она потерпит сильнее, чем мы. Не Австрия же, у которой, по выражению покойного Тютчева, все тело — ахиллесова пята, которая войны с Россией пуще всего боится, потому что только от одной решимости России зависит вызвать на свет божий «Австрийский вопрос». Несокрушим и непобедим русский царь, если только он с ясностью исторического сознания, с твердою верою в предназначение своего народа, отложив в сторону попечение об интересах западноевропейских держав, интересах своекорыстных и нам враждебных, возденет, по выражению наших древних грамот, «высоко-грозно и честно» в своей длани знамя славян и всего восточного христианства.
Волнуется, ропщет, негодует народ, смущаемый ежедневными сообщениями о Берлинском конгрессе, и ждет, как благой вести, решения свыше. Ждет и надеется.
Не солжет его надежда, потому что не переломится царское слово: «святое дело будет доведено до конца».
Долг верноподданных велит всем нам надеяться и верить, долг же верноподданных не безмолвствовать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающие средостение между царем и землею, между царскою мыслью и народною думою. Неужели и в самом деле может раздаться нам сверху в ответ внушительное слово: «Молчите, честные уста», «гласите лишь вы, лесть да кривда»…
Эта речь была сказана прежде, чем были известны протоколы Берлинской конференции, и прежде ратификации самого договора. Она была, несмотря на запрещение, напечатана в «Гражданине», за что газета эта была приостановлена на 6 месяцев. Несмотря на сомнения Аксакова, выраженные им в последних словах его речи, «раздалось сверху внушительное слово: молчите, честные уста».
Сперва ему объявлен был через московского военного губернатора, по высочайшему повелению, строгий выговор. Потом велено было отправиться в деревню и оттуда не выезжать, а потом велено было совсем закрыть московский Славянский комитет. Раздражение против Аксакова в высших административных сферах не имеет предела. Сознание бесплодности подобных одноличных резких заявлений должно было бы, по-моему, удержать Аксакова от публичного выражения справедливого негодования в столь резкой форме. То, что сказано в речи, все это повторяется во всей России на все лады. Факты сами по себе так громко говорят, что общество не нуждается в их разъяснениях. Война обнаружила беспримерную силу русских войск и силу народного духа, но вместе с тем обличила перед всей Россией полную несостоятельность правительства и его дипломатии. Она доказала ясно то, в чем я не сомневался в начале войны, а именно, что война начинается и ведется без определенной мысли и для целей отвлеченных, к которым со стороны правительства нет ни малейшего сочувствия[375], что идут защищать народность, которую презирают, охранять веру, к которой более чем равнодушны, племя, к которому стыдятся принадлежать. Когда, наконец, пришло время формулировать, в чем же, наконец, заключаются нравственные и материальные интересы России в восточном вопросе, тогда ясно обнаружилось, что лица, стоящие во главе правления, не только не сочувствуют и не понимают этих интересов, но прямо столько же им враждебны, как англичане и австрийцы. Этим вполне объясняется легкость, с которой делались все уступки. В глазах государя самым существенным сделался вопрос о возвращении нам части отторгнутой от нас в его царствование Парижским трактатом Бессарабии. Это удовлетворило его личному пониманию чести царствования, и он за этот вопрос стоял твердо, и дипломаты наши только об этом заботились. И этого достигли: все прочее им представилось делом пустым — выдумкою Аксакова и К°.