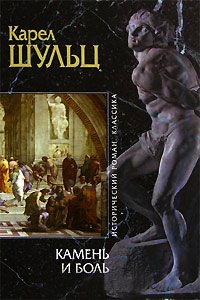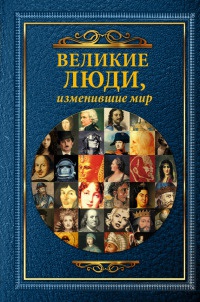Книга Выжить в Сталинграде - Ганс Дибольд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Когда я сказал доктору Дайхелю, что наверху остались еще двое наших врачей, больных тифом, он приказал их изолировать. Если у нас начнется еще и тиф, то нам конец, сказал он, хотя к тому времени от тифа умер Лароссе.
Мы заняли наши места. Доктор Штейн и я устроились на кровати с пружинным матрацем, доктор Майр и доктор Екель заняли нары, над которыми висел войлочный желоб. В него сыпалась штукатурка с потолка, когда по верху принимались по ночам бегать крысы. Сквозь щель в стене просачивалась узкая полоска дневного света, падавшая на входную дверь. Эта щель служила вентиляционным отверстием и была расположена под потолком. Света было мало, читать или писать при нем было невозможно. К тому же русский часовой часто заслонял отверстие, и тогда становилось совсем темно. Каждое утро в щели появлялась здоровенная откормленная крыса. Она садилась и внимательно смотрела на нас. Слева, рядом с нарами стоял длинный стол, за которым мы ели, чистили соленую рыбу, а также считали. Считать нам приходилось людей, которых мы делили на живых и умерших, и продовольствие.
В середине помещения стояла маленькая железная печка с плитой и решеткой, аккуратно обложенная оштукатуренным кирпичом. У нас снова был огонь! Мы чувствовали себя, как будто дом протянул нам свои теплые ласковые руки.
Освоившись в жилом помещении, мы пошли в дезинфекционную камеру помыться. Здесь мы снова столкнулись с доктором Дайхелем, который только что вымылся. Мы заметили, что, несмотря на худобу, это был атлетически сложенный человек с хорошо развитой мускулатурой. Он показался нам воплощением здоровья и силы. Мы сделали из этого свои выводы. Вместе со своей танковой частью Дайхель ухитрился довезти провиант до госпиталя. Он в свою очередь посмотрел на наши истощенные тела, на торчащие ребра, тонкие руки, немощные ноги, вздутые животы и мешки под глазами. В тот момент он ничего нам не сказал, но стал делить с нами рацион своих подчиненных. Мы были спасены.
На следующий день мы приступили к работе. Мы прошли мимо кухни, туалета и громадной мусорной кучи, в которой комендант то и дело находил оружие. Потом мы пересекли маленький дворик и подошли к входу в подвал, в подземный лазарет, как его называли. Крутой, без ступенек, спуск вел в сени. Справа был вход в хирургическую перевязочную. Немного позади и тоже справа находилась дверь в подвал, где лежали хирургические больные. Левая дверь вела в терапевтическое отделение. Эта дверь была плотно закрыта. Докторам Екелю и Беккеру было поручено наблюдать неинфекционных терапевтических больных. Рядом, за стеной находились два тифозных отделения, которые были поручены мне. Доктору Майру досталось отделение, где лежали больные с дизентерией и дифтерией. Наших товарищей по бункеру Тимошенко, доктора Маркштейна и доктора Лейтнера, мы поместили в первом тифозном отделении.
Мы осмотрели бункеры с больными, а потом вернулись в комнату, где нам предстояло жить. Там мы постриглись. Никаких инструментов, кроме ножниц, у нас не было, и с их помощью мы сделали, что могли. Стили причесок вышли довольно причудливыми. Это была первая ночь без вшей. Мы были на верху блаженства. На полу плясали красноватые отблески пламени, горевшего в печке.
На следующее утро я отправился в тифозный бункер знакомиться с моими пациентами. Кроме того, мне надо было проинструктировать санитаров и навестить докторов Маркштейна и Лейтнера. У обоих была высокая лихорадка. Доктор Лейтнер был очень терпелив. Единственное, о чем он просил, — это дать ему покурить. У доктора Маркштейна были тяжелые лихорадочные сновидения, но он сохранял свое непоколебимое спокойствие и железную выдержку. Он поздоровался со мной, внимательно на меня посмотрел и произнес своим обычным монотонным голосом, каким он, наверное, обращался к полковым хирургам: «Вы слышали последнюю новость?» Я пришел в некоторое замешательство. «Нет», — ответил я. Маркштейн возвысил голос и произнес: «Китай объявил войну России». Я изумился еще больше и спросил: «Откуда вы это знаете?» — «Как откуда, — удивился, в свою очередь, Маркштейн. — Естественно, мне это приснилось».
Пульс у Маркштейна был слабый. Я встревожился, отошел в угол палаты и принялся искать шприц, чтобы сделать ему инъекцию строфантина. Поиски мои не увенчались успехом. Я был в отчаянии. В горле у меня стоял ком, так как я был уверен, что дни Маркштейна сочтены. Мы так много пережили вместе. Но он оказался выносливым человеком и пошел на поправку. Позже мы не раз с ним ссорились, и он неизменно оказывался сильнее, потому что мог вытерпеть большие лишения, чем я.
Вскоре в этой палате появился третий больной. Это был наш переводчик Шлёссер, тоже из бункера Тимошенко. Несколько дней он прожил с нами в комнате начальника госпиталя, а потом у него началась лихорадка. Обирая умирающих, он заразился сам. Судьба жестоко отплатила ему за прегрешения против совести. Для того чтобы устроить его как можно удобнее, я положил его на диван, застеленный американским шерстяным одеялом. Он получал все лекарства, которые мы могли найти в наших скудеющих запасах, а русские давали все, что могли, лишь бы он снова поправился. Но ничто не помогало. Сам Шлёссер звал смерть. Он не мог лежать и все время сидел в своем углу. Лицо его было искажено болью и отеками, налитые кровью глаза вылезали из орбит. Рот был все время открыт, за распухшими губами виднелись зубы, из угла рта на грудь стекала слюна. Он все время что-то неразборчиво бормотал. Стоило подойти к нему, как он начинал кричать, царапаться и кусаться, как дикий зверь. Несколько дней и ночей он, дрожа, бредил в своем углу, пока смерть не избавила его от лихорадки и невыносимой головной боли. Комендант нашел в его вещах фотографию, на которой Шлёссер был запечатлен в начале войны, когда был молодым здоровым солдатом. Комендант показал нам фотографию и сказал: «И вы позволили умереть такому красивому парню!»
Комендант Блинков был армянин и прирожденный администратор. Он гораздо больше понимал в доходных делах, чем в медицине. С нами он обращался в полном соответствии с принципом, о котором неоднократно напоминал громовым голосом: «В Советском Союзе приказ — это закон!», и требовал, чтобы приказы исполнялись быстро и неукоснительно. Столкнувшись с самой ничтожной провинностью, он рычал: «Какая наглость!» В случаях более серьезных нарушений он кричал: «Я тебя расстреляю!» При этом он обязательно уточнял, когда и где это произойдет. Надо сказать, что он так никого и не расстрелял, хотя был отменным стрелком и метко стрелял по кирпичам в стене и сбивал пролетавших вдалеке ворон. Иногда, схватив палку, он принимался грозить робкому переводчику Янчичу, угрожая содрать с него кожу на ремни. Этого, правда, тоже не случилось. Но Янчич каждый раз сильно пугался, и это мешало ему правильно переводить то, что мы говорили коменданту. Но больше всего интереса Блинков проявлял к экономическим вопросам. К этому его предопределили воинское звание и происхождение. Этот рослый человек с длинным носом, быстрыми проницательными глазами, седыми щетинистыми волосами и громовым голосом обладал сверхъестественной способностью извлекать шинели из навозных куч, сапоги из груд битого кирпича, фотоаппараты из выбоин в стенах, а части пистолетов из щелей в полу. Если он находил деталь фотоаппарата, то приказывал начальнику госпиталя отыскать все остальное. При этом он грозил, что тот, у кого найдут недостающие детали, будет расстрелян. Если, несмотря на угрозу, ничего найти не удавалось, начинался «поиск оружия». Тогда Блинков переворачивал вверх дном весь госпиталь. В то время оружие в Сталинграде валялось буквально везде. Наверное, по этой причине Блинков не причинил вреда никому, под чьим спальным местом или в щели над головой, к ужасу бедного пленного, он обнаруживал пистолет или какое-то другое оружие. С другой стороны, во время таких обысков охрана часто изымала у пленных разные предметы, особенно если они отливали металлическим блеском или казались полезными. Среди сокровищ Блинкова был даже микроскоп. У стены во дворе он хранил одеяла, а рядом форму и простыни. Иногда все это исчезало, не побывав в дезинфекционной камере. Блинков тщательно следил за тем, чтобы были изъяты сапоги умерших больных. Стало опасно иметь сапоги. Всегда была вероятность того, что их просто снимут. Поэтому при первой же возможности сапоги меняли на ботинки со шнурками, которые не пользовались особым спросом.