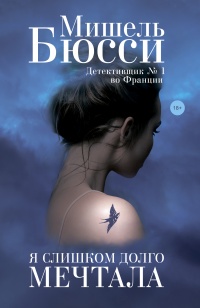Книга Севастопология - Татьяна Хофман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это – тайное насилие, на улице и дома. Приватная сфера часто была открытой. Мужчины, которые в предостерегающих рассказах не только заманивают чем-то вкусным, но и средь бела дня подходят к группе детей с непонятными намерениями. Это – дети, которые в один прекрасный день больше не спускаются вниз поиграть. Это – дети, которые защищаются группой. Это – наверняка и другие истории, с которыми мы рассеялись по улицам мира, в уверенности, что вернёмся к ужину. Как будто этот кусочек моря и этот кусочек земли могли нам крикнуть, что за вздор это всё, былые карлики давно уже укрылись за семью горами.
Это – дети, которых на все три месяца летних каникул отправляли к родственникам в Севастополь из Москвы, Петербурга или с Камчатки. Они привозили свои истории и уезжали с нашими, загорев до черноты. Каждое лето вырастаешь вдруг из всего, но всё равно не дорастаешь до одежды старших братьев и родителей. Импортные выражения новичков иногда сохранялись дольше, чем память об их смутных лицах. Например, они привезли с собой весёлое слово сугроб – я два лета подряд удивлялась фантазии, которая могла такое выдумать, пока мне не показали фото со снегом метровой высоты, белым по чёрному.
Мальчишки, которые с садистским удовольствием вырывают у тебя из рук бордовую скакалку из тяжёлого пластика (если ею стегать, больно). Им безразлично, что у тебя день рождения и это твой дорогой подарок. На тебе платье, гольфы, с твоего дня рождения начинается тёплое полугодие, и ты теперь ускачешь от любой серой усталости. Ты смотришь, как один из мальчиков, брутально быстрый бегун, покрикивающий на своего младшего брата, а то и поколачивающий его, использует твою скакалку для того, чтобы между двумя кустами отгородить мальчишечью палатку. Ты не знаешь, как, но вдруг сидишь в этом укрытии, в кустах неподалёку от места под забором, где пекут картошку, с этим жилистым мальчиком. Вы говорите между собой как два вождя разных индейских племён. Ты пытаешься быть как можно более осторожной и выговорить мирный договор. Мальчишки, которых лучше избегать, когда они в стае, поодиночке вполне милы – тихие моменты, беседы на задержанном дыхании, спонтанные поэтики невысказанных симпатий.
Пожилые женщины с моральными проповедями о приличии, загадочные голоса из сигнальной кнопки лифтового пульта (как говорящая женщина попала в красно светящуюся аварийную кнопку?) ни с того ни с сего застрявшей кабины. Однажды, по дороге в гости, у меня оказалась с собой коробка шоколадных конфет. Я все их съела за четыре часа ожидания, уже примирившись со смертью в лифте. Так что смерть подкралась вначале сладко, а потом встала во весь рост в образе дурноты. С тех пор у меня развилось что-то вроде достоинства смерти, и я не готова закончить жизнь трупом, раскисшим в грязи на асфальте.
Между прочим: песни Высоцкого. Некоторые я знала наизусть ещё в детском саду, их слова как стихи вспоминались сами. Придумывала себе объяснения для его метафор и верила в их драматический трагизм, точно так же, как интерпретировала порядок осенних листьев на тротуаре… Про себя я подпевала и Queen, и Майклу Джексону. Произносила громко и отчётливо – как теледикторша, сказала моя мать – старинные поговорки, в том числе о падишахе-ахе-ахе в высоких кавказских горах-ах-ах. Теперь я только начинаю первую строку, мой сын подхватывает вторую. Он уже достиг возраста моего первого внешкольного учебного года, мы бесконечно приближаемся друг к другу.
А ещё: игра, в которой можно говорить только в рифму или не говорить вообще. Необходимость импровизировать шутки, приколы, рассказывать анекдоты, понимать намёки, парировать, находчиво управлять общим настроением и личной позицией – и не уставать. Подобное ведение разговора я наблюдала в дискуссиях о русской поэзии в кафе Ниммерзатт в Берлине, когда несколько мужчин из публики донимали поэтов вопросами, называя их «ходами», но это не имело отношения к немецким Hoden (яйца), а может, и имело, собеседники явно подзуживали друг друга. Собственно, ходами – пещер, лабиринтов или мысли – были, например, такие вопросы, не потому ли автор стихов «ready written» бесстыдно ставит себя в преемственность к концептуалистам, что сам не имеет потенции. Мужчинам приходилось доказывать обратное, стоять на своём. Стилизованные женщины вопрошающих источали ту энергию, которая воспламеняет мужчин. Я рассматриваю сцену из третьего ряда публики или с балкона седьмого этажа панельной высотки как азартно нейтральная жительница Сева-Цюриха, севаслерша, яхтсменка. (После серии переездов у меня развилась эта специфическая лингвистическая хворь – сшивать топонимы и конструировать неологизмы. Правильно выговорить и понять их могут лишь швейцарцы, причём лишь из того краевого кантона, где не больно наткнуться на кант и покататься в картонной карете).
Тот русский полуукраинец продолжает строить деревню в «центральной зоне», из лета в лето. Свою деревню, он говорит о ней как о своей жене. Она его поэзия, и каждый дом, каждый забор – книжка лирики. Он пишет, что он добрый фей. Это рифмуется со словом змей. Хотя он и считает меня шпионкой, он хотел бы показать мне кое-что в России, from Russia with love. Мы пробираемся по руинам, влезаем на строительные леса и зависаем у фресок в монастырях. Мой экскурсовод всегда находит объяснение и выход. Начитанный, он объясняет вечные памятники, и я понимаю: ой, он заменит Олега.
Назад к достоверным слухам и к слоганной тенденции придумывать прозвища. Они приклеиваются, мгновенно подхваченные другими, и впечатываются как клеймо. Я для всех была «С седьмого этажа». И не имела имени. Хватились ли они меня, гадали, куда я подевалась? Возможно, никто из тех бывших детей и не вспоминает так одержимо наше общее время. Нашу скакалку и нашу закалку, наши меловые и травяные граффити, нашу вялость от зноя, которая наступала с трудом, а сдувалась мгновенно. Последний раз я видела народец моих друзей июньским днём 1993 года. Поскольку клички заменяли нам фамилии, мне не найти их через интернет, разве что появится социальная суб-сеть Вконтакте с дворово-шутовскими кличками девчонок и мальчишек, уличными метриками – этакое кладбище детства, на котором позволено устанавливать памятники тогдашнему времени. При помощи googlemaps я отважилась совершить облёт над своими Остряками, нашим неприметным районом новостроек, и пожалела об этом: холмы, со спин которых мы скатывались летом в надежде ощутить это как скольжение по снежной горке, теперь забетонированы.
Мой год свободы совпал с последним вздохом Советского Союза. Если я позволю себе обобщить собственный опыт, я вижу поколение Homo postsovieticus, на котором этот разлом сказался так же сильно, как и детство при позднем социализме. Я вижу разные типы этого постсовьетикуса: с мигрантским уклоном и тех, кто более или менее остался на месте, вывязав свой собственный орнамент жизни, наделив его смыслом (деньги, машина, дети, квартира, поездки на Запад, а то ещё: дача, деревня, строительство), чтобы не впасть в детство, но и не слишком далеко от него отойти. Кто-то запоем читает о местной истории, архитектуре, искусстве. Бродят по ягоды и грибы, словно кладоискатели в поисках истоков, в которых кроется и сберегается идентичность, в поисках кода русскости, которую они могут назвать своей, перейти на собственный кошт. Пусть это будет отныне названием русского бистро, которое мы быстро оборудуем как наше: Russkost, Русский кошт. С филиалом под названием Krimkost. С отрадным доказательством того, что все могут причаститься подрумяненной корочкой крымского побережья; и есть что открыть в тонких традициях, и есть что утоньшить. Мы откроем его открыто в глобальной сети благородного фастфуда, состоящей из безвизовых филиалов «Вост. Духа». Один из них называется Мыс Фиолент, другой – Буревестник.