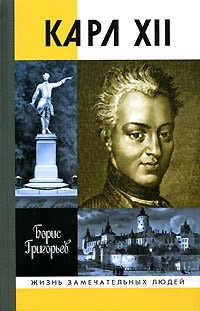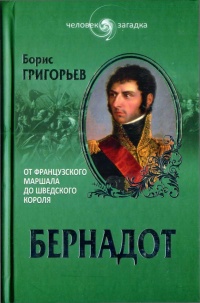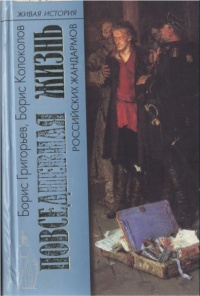Книга Аполлон Григорьев - Борис Егоров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Тот, видимо, продолжал околачиваться в Петербурге, ибо именно там его встретил Григорьев в один из своих многочисленных архикризисных моментов, о чем писал, вспоминая, Погодину в 1859 году: «…некогда, в 1844 году я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского». Безвольный Григорьев, видимо, быстро оказался в руках хитрого и умного «масона», чем тот беззастенчиво пользовался. Журналист И. В. Павлов, хорошо знавший Григорьева тех лет, вспоминал: «А года через два (речь выше шла о 1843 годе. — Б.Е.) бедняга попал в умственную кабалу к известному тогда проходимцу Милановскому, выдававшему себя чуть не за Калиостро. К нему относится экспромт Некрасова, напечатанный в альманахе «1 апреля»:
И вот на этого-то вора, архижулика, Аполлон Григорьев чуть не молился и рабски повиновался ему во всем».
Осуждающе о подчинении Григорьева «масону» писал Полонскому Фет 30 июля 1848 года: «Вот что значит ложное направление и слабая воля. Милановского надобно бы как редкость посадить в клетку и сохранить для беспристрастного потомства. Впрочем, он только и мог оседлать такого сумасброда, как Григорьев».
А «оседлал» Милановский Григорьева не только «умственно», как писал Павлов, но и материально. Григорьев сообщал отцу 23 июля 1846 года: «Связь моя с Милановским действительно слишком много повредила мне в материальном отношении, но вовсе уже не была же так чудовищна, как благовестит об этом Москва (…). Тяжело мне расплачиваться за эту связь только материально, ибо (…) я взял на себя (давно еще) долг этого мерзавца». Так что в середине 1846 года он уже и сам раскусил проходимца.
В повести «Другой из многих» он расставался со своими заблуждениями и отталкивал искусителя. В конце повести Иван Чабрин, благородный и романтический юноша, духовно соблазненный Имеретиновым (в первом герое заметны черты автора), убивает на дуэли своего соблазнителя. Так Григорьев косвенно расправлялся и с «этим мерзавцем», и со своим прошлым.
Если о масонских пристанищах Григорьева в Петербург можно только гадать, то совершенно точно известно, что с осени 1845 года он жил у B.C. Межевича, давшего ему приют не только домашний, но и журнальный. В письме к Погодину 19 октября 1845 года Григорьев сообщает свой адрес: «…близ Большого театра в доме Гюбеня в редакции «Полицейской газеты» в квартире редактора». Этот дом, правда, надстроенный в XX веке еще на один этаж, сохранился; тогдашний его адрес – Никольская, 5; нынешний — ул. Глинки, 6. Рядом, на месте современного здания Консерватории, находился главный театр Петербурга — Большой (Мариинки тогда и в помине не было). На службу Григорьеву тоже недалеко было ходить: Управа благочиния располагалась совсем близко, на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта; в сильно перестроенном и надстроенном виде это большой административный дом № 55-57 по Садовой. Сенат — чуть подальше, у Медного всадника.
Василий Степанович Межевич, родившийся то ли в 1814-м, то ли в 1812 году, был отдаленный потомок польских шляхтичей, второстепенный поэт и литературный критик, москвич, приглашенный А.А. Краевским в обновленный журнал «Отечественные записки» и потому переехавший в 1839 году в Петербург. Но вскоре Краевский предпочел куда более талантливого Белинского и отстранил Межевича от литературной критики, чем его, конечно, смертельно обидел. Межевич тогда перебрался в булгаринскую «Северную пчелу» и, видимо, тем самым стал для властей благонамеренным: он смог получить место редактора вновь открытой газеты «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», которую сделал довольно интересной, помещая там очерки и рецензии культурной жизни столицы, особенно театральной жизни. С 1843 года он еще возглавил театральный журнал «Репертуар и пантеон». Поэтому привлечение Григорьева (может быть, они еще по Москве были знакомы были?) было очень полезно для последнего: он уже с июня 1844-го стал печататься в «Репертуаре и пантеоне», известно и его участие в «Полицейской газете» (так она именовалась в обиходе). Мы можем гадать и о помощи Межевича при устройстве Григорьева в полицейскую Управу благочиния и при издании сборника стихотворений.
В 1845—1846 годах Григорьев стал ведущей фигурой в журнале «Репертуар и пантеон», чуть ли не фактическим редактором; по крайней мере он обильно заполнял страницы журнала своими художественными произведениями, очерками, театральной критикой.
А Межевич вскоре очень плохо кончит. Возможно, что уже в середине сороковых годов он стал злоупотреблять алкоголем, с 1847 года он уже не был редактором «Репертуара и пантеона» (вытеснили коллеги?), а потом несчастья посыпались одно за другим: тяжело заболела жена, помощница и опора, нужны были большие деньги на лечение. Межевич дошел до каких-то нечистоплотных махинаций, до растраты казенных сумм «Полицейской газеты», оказался под судом, после смерти жены еще сильнее запил; кончина его в 1849 году была кошмарной: обобранный какой-то пришлой любовницей, больной, он неожиданно и таинственно скончался, то ли умер от схваченной холеры, то ли покончил с собой. Но это уже будет два года спустя после возврата Григорьева в Москву, в середине же сороковых годов Межевич еще браво редактировал журнал и газету и привлек к активному сотрудничеству Григорьева.
Брезгливо отталкиваясь от чиновничьей службы, находясь в сложных взаимоотношениях с масонами, получив вдруг прекрасную возможность почти неограниченно печатать свои произведения, Григорьев продолжал жить интенсивной духовной и душевной жизнью с незаживающей раной неразделенной любви к Антонине Корш. Со свойственными его характеру привычками он не только не пытался заглушить пожар чувств, но еще и постоянно растравлял раны. Одним из главных способов (может быть, бессознательных) такого растравливания стало художественное и художественно-критическое творчество, причем во всех жанрах: в стихах, прозе, драме, очерке, театральной и литературной критике. И во всех этих произведениях прямо или косвенно отражена драматическая любовь автора.
Больше всего ее, естественно, в лирике. Почти все московские стихотворения Григорьева были посвящены этой истории, то же можно сказать о последующих петербургских. Начинал поэт с гармоничных, светлых образов, и лишь обертонами звучали какие-то странные, совсем не гармоничные мотивы. Например, стихотворение «Обаяние» (1843) как будто бы — вариант на тему «Доброй ночи»:
Тайная сила любимой навевает ему сладкий сон: морской простор, волны, заветная жизнь… Все хорошо бы, если бы не странное начало:
Здесь, как и в некоторых других ранних стихотворениях Григорьева, встречаются грамматические неточности; например, вряд ли удачно сочетание: сила обаяния на меня. Но одна неточность, возможно, сознательная: каково подчинение слов в первой строке? Страданье безумного счастья или безумное счастье страданья? Неясно. Но неясность, видимо, умышленная, Григорьев так тесно сливает счастье и страданье, что безразлично, счастье страданья или страдание счастья.