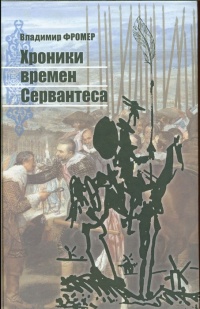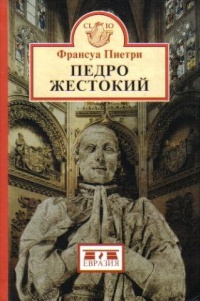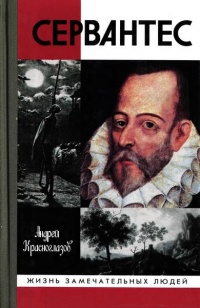Книга Лопе де Вега - Сюзанн Варга
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Существовали ли какие-то связи между Лопе и его матерью? Если она сама и не исчезла из его жизни, то, как это ни странно, воспоминания о ней очень быстро стерлись из всех произведений ее сына, словно были вымараны специально. Вероятно, было бы небезынтересно сравнить значение матери Лопе в его жизни с тем, какое положение образ матери занимает в его пьесах: как ни странно, этот образ практически отсутствует среди действующих лиц его произведений за исключением, пожалуй, лишь одной комедии и одного прозаического произведения, то есть «Доротеи», где мать играет достаточно важную, но, правда, весьма неблаговидную роль.
Однако Лопе поддерживал дружеские отношения с Луисом Росиклером, своим шурином, явно по причине сходства их взглядов и вкусов. Луис Росиклер был великолепным мастером своего дела; родом он был из Франции, обладал исключительными способностями как в вышивании, так и в рисовании, кроме того, увлекался астрологией; последнее увлечение принесло ему некоторую известность в обществе, но также стало причиной определенных неприятностей с инквизицией. Лопе тоже не остался равнодушным к этому пристрастию шурина и наделил этой страстью дона Сесара в «Доротее».
Тогда же, после возвращения Лопе из первого путешествия, его с Росиклером и Сервантесом не раз видели на лекциях мэтра Хуана де Кордова в Королевской академии математических наук в Мадриде. Надо заметить, что в тот период Лопе, на время успокоившийся и остепенившийся, несколько пресытившийся приключениями, вновь поступил на службу, но не к епископу Авильскому, который охотно простил бы ему все его прихоти и затеи хотя бы потому, что довольно много предавался им сам, а к дону Педро Давила, маркизу де лас Навас, остановившему на Лопе свой выбор при поисках секретаря. Новое положение в обществе позволило Лопе завязать новые полезные связи и даже вновь ступить на путь обретения университетского образования.
Последний опыт пребывания в стенах университета: Саламанка
Лопе оказался в старинном Саламанкском университете. В центре прекрасного города, чьи башни и дома отражаются в водах Тахо, высятся здания одного из старейших университетов Европы; он был основан в XIII веке и получил от папы римского Александра IV буллу, в которой был возведен в ранг одного из четырех главных высших учебных заведений мира. Его девизом было изречение: «Omnium scientiarum princes Salamantica docet», что на латыни означает «Первая в преподавании всех наук», и в годы наивысшего расцвета он принимал до десяти тысяч студентов. Научная жизнь била в нем ключом уже в Средние века, а позднее он стал центром испанского гуманизма. Ослепительно прекрасный фасад здания Саламанкского университета, представляющий собой настоящий шедевр испанских серебряных и золотых дел мастеров, результат воистину ювелирной работы резчиков по камню, окружали галереи, отличавшиеся изысканнейшей архитектурой, между ними находились чудесные мирные внутренние дворики, столь успокаивающе действовавшие на тех, кто в них бывал; дворики и галереи как бы служили обрамлением для двадцати пяти колледжей университета, подразделявшихся на Большие и Малые колледжи; свет, лившийся сквозь ажурные арки галерей и наполнявший внутренние дворики, создавал резкий контраст с сумраком университетских аудиторий, где скамьи амфитеатром поднимались вверх. В этих залах, столь темных, что в них почти ничего не было видно, происходил таинственный, прекрасный, сокровенный процесс передачи знаний от одного человека к другому, от одной памяти к другой. Здесь не было никакого иного света, кроме света мысли, здесь не делали никаких записей, здесь не произносили никаких речей, кроме воззваний к разуму и призывов к умственному сосредоточению. Позднее в одной из пьес Лопе поведает об этом священном, идеальном месте для тех турниров, где в сражении вступали лучшие умы, и сравнит его с городом Фивы:
Надо сказать, что это пространство, предназначенное для спокойных размышлений и напряженной учебы, было — за несколько лет до прибытия туда Лопе — ареной острейшей полемики, глубоких разногласий на почве теологии, отголоски коих дошли и до ушей будущего драматурга. Эти жестокие споры вкупе с жалкими попытками соперничества и взаимным непониманием привели к ужасным последствиям. Так, например, они самым печальным образом сказались на судьбе человека, бывшего самой знаковой фигурой среди испанских поэтов эпохи Возрождения, писавших на кастильском наречии. Монах-августинец, сын известного правоведа, эрудит, обладавший огромными познаниями в том, что касалось Священного Писания и трудов Отцов Церкви, фрай (брат) Луис де Леон несмотря на решения Тридентского собора провозглашал с университетской кафедры превосходство древнееврейского текста Ветхого Завета над латинской версией «Вульгаты» и перевел на испанский язык «Песнь песней». Эти его деяния, а также пылкий темперамент и невероятное упрямство, находившиеся в прямой противоположности с сокровенным и безмятежным мистицизмом, пронизывавшим все его творчество, незамедлительно привели к тому, что у него появилось множество врагов, и пробудили к нему интерес со стороны инквизиции. Против Луиса де Леона был выдвинут ряд тяжких обвинений, инквизиция приступила к судебному разбирательству, процесс против него продолжался пять лет, которые он и провел в застенках Вальядолида. Когда в 1577 году Луис де Леон вышел из тюрьмы, ибо был признан невиновным, он вновь взошел на университетскую кафедру и блестяще проявил свою способность к остроумию. Обычай, существовавший на протяжении нескольких веков (правда, теперь подвергающийся сомнению со стороны современных «сторонников строгого обращения с фактами истории»), требовал, чтобы преподаватель, вернувшийся к чтению лекций, оказавшись вновь перед студентами, коих он не видел давным-давно, начал лекцию с того самого места, на котором прервал ее. Так вот, Луис де Леон, отсутствовавший пять лет, начал свою новую лекцию, прибегнув к схоластической формуле: «Вчера мы говорили о…»
Лопе проходил курс наук в Саламанкском университете с 1581 по 1583 год, то есть как раз в тот период, когда брат Луис де Леон вновь вернулся на свою кафедру после процесса, организованного инквизицией; свое место он занимал в университете до самой смерти — до 1591 года. Был ли Лопе с ним знаком? Прямых доказательств мы не имеем, но факт их знакомства кажется весьма вероятным. Лопе в то время изучал каноническое право под руководством прославленного Диего де Вера, которому он пятьдесят лет спустя, в 1634 году, в одном из своих последних произведений — «Стихотворения Томе Бургильоса» воздаст хвалу. Он вспомнит и друзей-соучеников, в особенности того, кто впоследствии станет доктором Пичардо, руководителем кафедры юриспруденции, а также старинного друга по университету в Алькале Асканио Колонну, ставшего впоследствии кардиналом.
Завершая свое образование и приобретая воистину энциклопедические познания, Лопе пережил одно замечательное, поразительное событие, взволновавшее всех. Речь идет о переходе к новому летосчислению, которое произошло в связи с переходом от юлианского календаря к григорианскому в ночь на 5 октября 1582 года. Юлианский календарь, по которому жила вся Европа, весь так называемый «латинский мир», то есть все территории, оказавшиеся под властью римско-католической церкви, а также все территории, входившие в состав Римской империи, был принят в 46 году до новой эры (или до Рождества Христова). По юлианскому календарю между ноябрем и декабрем существовали еще два дополнительных месяца, так что продолжительность 46 года до новой эры составила 445 дней. К XVII веку между реальным солнечным годом и годом календарным образовалось расхождение в одиннадцать дней; папа римский Григорий XIII, собрав специальную комиссию из наиболее приближенных кардиналов, принял решение провести реформу летосчисления и заставить христианский мир перейти на новый календарь. В ночь на 5 октября время как бы совершило прыжок вперед на десять дней. Это событие потрясло умы, во многих местах вспыхнули настоящие бунты, потому что люди сочли, будто их насильно лишили десяти дней жизни. Получалось, что между пятым и пятнадцатым октября никто не родился, никто не умер и никто вообще не прожил этих десяти дней. Даже сам Монтень с трудом приспособился к новому миропорядку. «Как бы я ни старался об этом не думать, — говорил он, — но мне все время кажется, что я либо опередил время на одиннадцать дней, либо отстал от него на столько же».