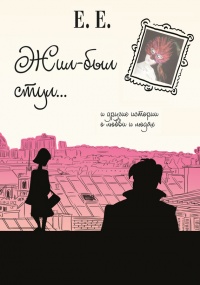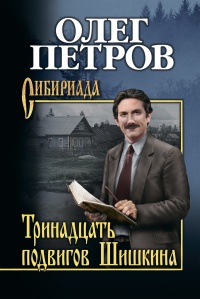Книга Взрослые люди - Денис Драгунский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Важно другое: юные зрители – в том числе и наши ребята – вели себя просто ужасно. Самые паиньки зевали и перешептывались. Остальные громко смеялись, кидались бумажками, делали из программок бумажных голубей и пускали их с балкона в зал. А в партере их кто-то ловил и бросал дальше.
Бедные актеры едва дотянули спектакль до финала.
Хлопали, впрочем, громко и искренне – очевидно, ребята радовались, что всё кончилось, можно встать, размяться и пойти домой.
Тут к рампе вышел старый актер в гриме – кажется, Фирс? – и объяснил нам, какие мы невоспитанные и грубые люди.
– Нехорошо! – гневно и скорбно сказал он. – Стыдно!
В общем, встреча с искусством не состоялась.
Но мало этого! Через несколько дней в «Комсомолке» появилась статья, в которой всё это было подробно описано – с указанием номеров школ, где учатся такие, можно сказать, дикари. Номер нашей школы тоже был.
Стыд, позор, скандал.
И вот однажды утром в класс вошла наша Татьяна Гавриловна, учительница литературы. Она вообще была строгая дама, но тут она держалась особенно прямо, шагала особенно громко и смотрела особенно сурово.
– Состоялся педсовет, – сказала она. – Мы разбирали этот возмутительный случай. Я сама не могу понять, что произошло. Разве мы не воспитывали вас в духе интереса к театру, к искусству? Да и просто в духе уважения к труду! Ведь актеры – такие же труженики, как рабочие! Какой позор на всю страну. Вы знаете, какой тираж у «Комсомольской правды»? Двадцать миллионов экземпляров! Вы знаете, что каждую газету читают как минимум три человека? Шестьдесят миллионов советских людей теперь знают, какие дикие люди учатся в 175-й школе. Вам не стыдно?
Нам было стыдно. Мы молчали.
Она тоже замолчала. А потом добавила:
– Хотя играли они очень плохо…
Еще про Татьяну Гавриловну
Татьяна Гавриловна, наша учительница литературы, была непростая женщина и очень непростая учительница.
Немолодая – лет сорока, не меньше, когда мы были в восьмом классе. Небольшого роста, коренастая, скорее некрасивая, курносая, черноволосая, с химической завивкой. Белая кофточка, темный пиджак, темная юбка. Туфли на толстой подошве с тупыми носами.
Она читала нам вслух разные стихи.
Вдруг, без предупреждения. Однажды прочла «Елену Сергеевну» Вознесенского. Если кто забыл – стихи про любовь учительницы и ученика. «И стоит она возле окон, чернокосая, синеокая, закусивши свой красный рот, белый табель его берет». Это был некоторый шок.
Помню, как я однажды написал в сочинении – десятый класс – две вещи.
Первое – что я верю в Бога и что народу нужна Церковь.
Второе – что немного сухого вина за ужином – ничего, кроме пользы.
Татьяна Гавриловна остановила меня в коридоре. Мы присели на банкетку. Был конец уроков, уже никого не было.
Она сказала:
– Я показала твое сочинение своим коллегам-словесникам. Они спросили, знаю ли я, куда ты собираешься поступать. Я сказала, что да, знаю. (Я собирался на филфак МГУ и всем об этом рассказывал.) Тогда мои коллеги-словесники сказали, – продолжала Татьяна Гавриловна, – что я должна пойти в приемную комиссию этого вуза и показать им твое сочинение, чтобы тебя ни в коем случае не приняли, потому что ты враждебен и циничен.
– И что теперь? – спросил я.
– Ничего, – сказала она. – Никуда я не пойду, конечно же. Я не доносчица. Кроме того, это совершенно бессмысленно.
Отдала мне сочинение. Там были волнисто подчеркнуты некоторые, с ее точки зрения, стилистические шероховатости. Вместо отметки стояло: «./.» (точка-слэш-точка, то есть «без оценки»).
Насчет вина. Страшно признаться, но мы иногда баловались на переменке сухеньким. У нас все перемены были по пять минут, а большая – сорок. И мы успевали слетать в магазин. Вот так, дорогие товарищи. Однажды я отвечал урок по литературе – как сейчас помню, по поэме Твардовского «За далью – даль» – и был при этом в очень хорошем настроении. Я этак непринужденно держался за спинку учительского стула. Но всё окончилось хорошо. До сих пор не могу понять – это я так железно держался, или Татьяна Гавриловна была бесконечно доброй и мудрой.
Однажды Татьяна Гавриловна сказала:
– Я, как дисциплинированный коммунист, подчиняюсь решениям XX и XXII съездов. Но я считаю, что разоблачение культа Сталина было большой ошибкой партии и государства. Но не потому, что я сталинистка, нет, что вы! Просто я уверена – народу эти разоблачения не нужны. Народу это вредно.
Непростая учительница, я же говорю.
Сережа и Костя
У нас в классе были ребята из самых разных семей. Это сейчас бывают школы для детей элиты, для детей интеллигенции, для рядовых граждан… У нас ничего такого не было – шестидесятые годы, сами понимаете. Тем более, школа была простая, то есть не языковая.
Хотя раньше-то она как раз была самая элитарная в Москве, там дети Сталина учились и разных наркомов. Но – сильно раньше, в тридцатые-сороковые. Хотя это я так, к слову.
Вот.
Значит, в основном были дети обычных советских служащих. Были и дети художников, журналистов и даже дипломатов.
Но Гаусс – он и в шестидесятые Гаусс.
На одном краю социального распределения был Сережа Z, у него папа был самый настоящий министр. Единственный в нашем классе представитель правящей верхушки.
А на другом краю – Костя N, у него папа был слесарь-сантехник. Единственный представитель рабочего класса.
Я бывал в гостях у обоих.
У Сережи была огромная квартира в доме с колоннами из красного гранита; стеклянные двери, сияющий паркет, ковры, окна-эркеры. Золотые корешки книг.
А Костя жил в коммуналке, в ветхом домике: во двор через третью арку, вторая дверь налево, третий этаж без лифта, четыре звонка. В одной комнате с папой-мамой. Кружевная салфетка на телевизоре, коврик с оленями, никелированная кровать. Герань, кошка, абажур.
Сережа был красавец: рослый, сероглазый, пепельно-русый. А Костя – маленький, узкоплечий, с красными пятнышками на лбу и щеках.
Они, однако, дружили.
Правда, Костя к Сереже в гости не заходил. Уж очень там было торжественно и строго, и всегда кто-то над душой – мама, бабушка, старшая сестра, домработница. А вечером, когда папа с работы приезжает, – вообще все на цыпочках.
А вот Сережа к Косте часто забегал. Там комната хоть и одна, но взрослых не было – отец краны чинит, мать уборщицей в трех местах. А еще у Кости была тетя в деревне, и она привозила самогон. Большая, литров на пять, бутылка стояла между шкафом и окном. Самогон был мутный и очень крепкий, от него шел упоительный запах дрожжей: я пробовал, мне понравилось. «Домашний продукт!» – говорил Сережа, выпивая налитую Костей стопочку.