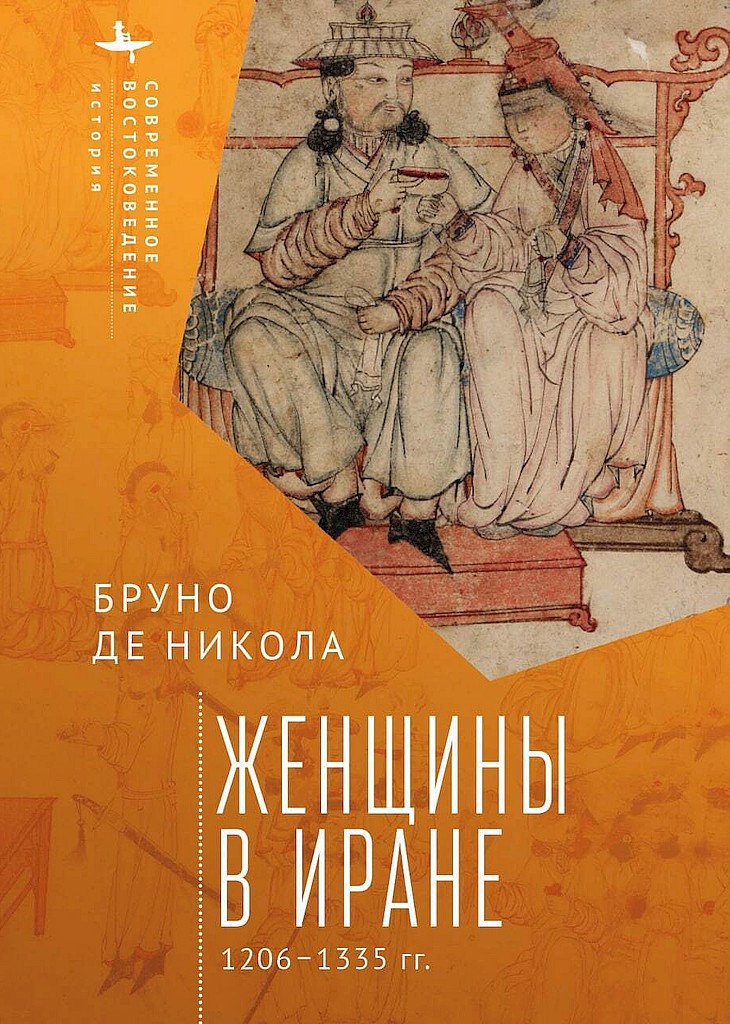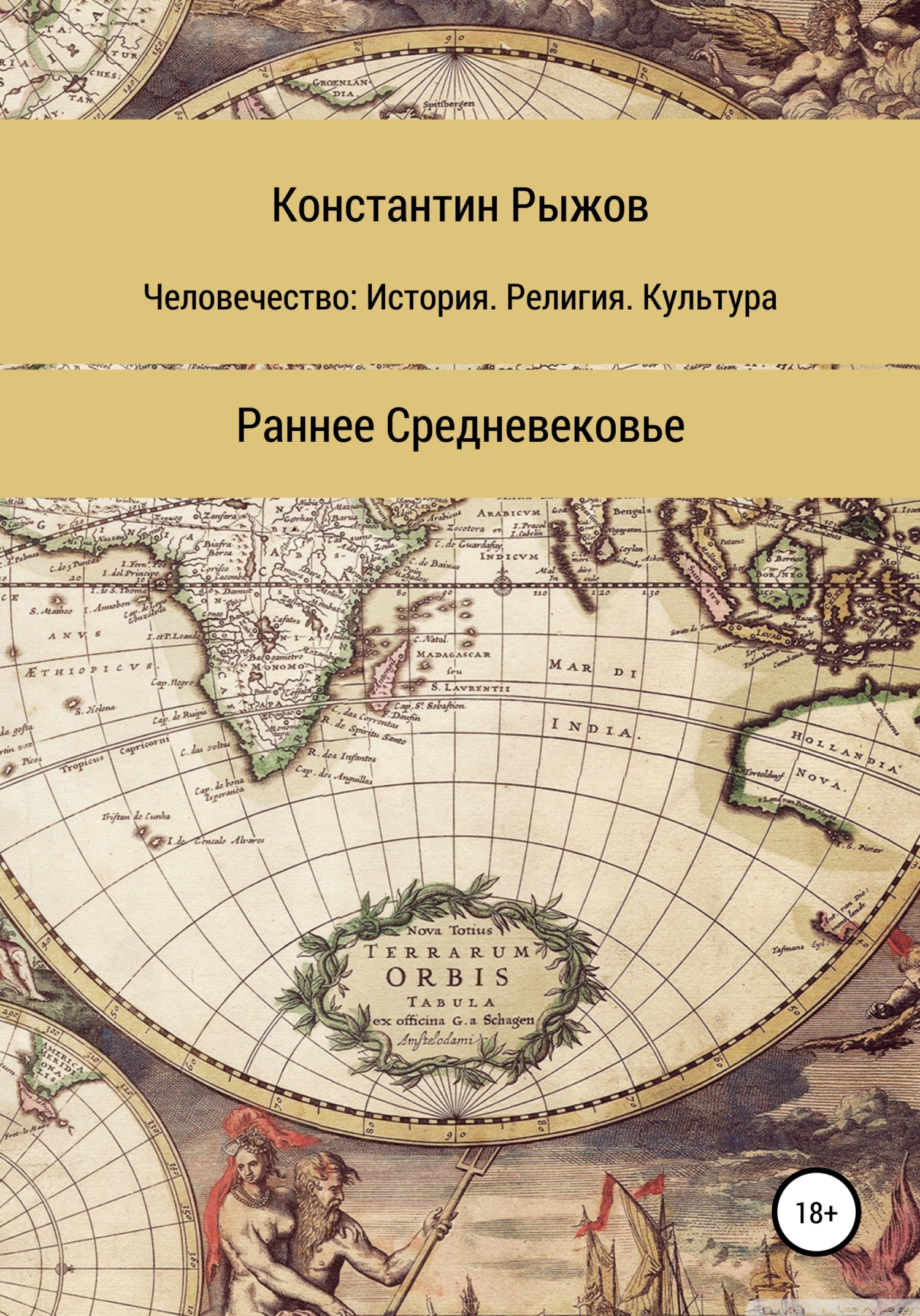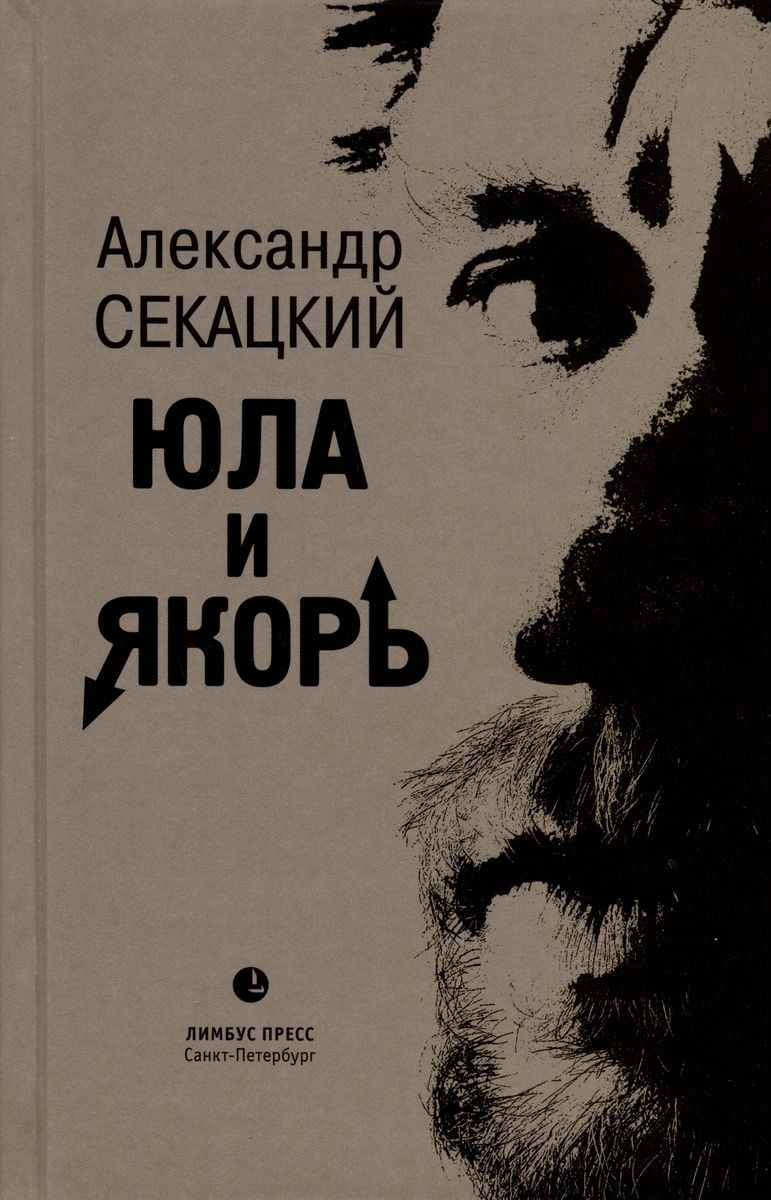Книга Критика евангельской истории Синоптиков и Иоанна. Том 1-3 - Бруно Бауэр
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С распространенным и, как кажется, бессмертным предрассудком, считающим, что превосходное положение христианского принципа находится под угрозой, если будет доказано, что в него вошли иудейские и языческие элементы, мы, как нам кажется, вполне справились: мы не только говорим, как эти обвинители, но и утверждаем, что христианский принцип стоит бесконечно выше этих элементов и не мог быть ими порожден. Конечно, при этом они понимают эти утверждения так, что содержание христианского сознания и языческого представления также бесконечно различно, поскольку последнее есть лишь человеческая поэзия, а первое — «божественный факт»; но мы уверены, что можем оставить в неприкосновенности высокое значение христианского принципа, не имея необходимости принижать представления язычества как простую поэзию. В язычестве тоже действовали общие религиозные категории, потому что оно, как и всякая религия, есть существенный процесс самосознания; в нем тоже дух чувствовал себя встревоженным своей внутренней противоположностью и искал в созерцании уверенности в успокоении и примирении. Но разве различие между язычеством и христианским принципом не сохраняется в совершенстве даже тогда, когда оно понимается как различие внутри самосознания? Не является ли это разумное, истинное различие только тогда, когда оно переносится в Единый мир самосознания?
Языческая концепция сыновей богов еще поверхностно постигала сущностную антитезу самосознания и ее растворения, потому что естественность еще держалась за обе стороны, потому что общая сторона божественного еще мыслилась в виде особых сил, поэтому антитеза не была чистой, а ее растворение было легким и безболезненным. Бог, который сам еще несет в себе природный пафос, который является особым субъектом наряду с другими, тоже не может быть бесконечно отчужден от конечного духа и легко будет подвигнут к тому, чтобы снова с ним познакомиться, если мир однажды нарушится; более того, это даже не может быть очень заметно, когда обе стороны смешиваются в своей естественности. Но остается только разница в самосознании, когда христианский принцип лишил общую силу духа всякой естественности, и теперь тем труднее упразднить ставший бесконечным контраст. Если христианская община, пытаясь осмыслить упразднение этой противоположности в концепции поколения Иисуса, использовала и даже вынуждена была использовать языческий элемент, то она в то же время существенно изменила его и придала ему новый смысл через предпосылку самой обязательной противоположности.
Но это различие никогда не сможет доказать, что в евангельском сообщении содержится тот факт, который мрачно отрицается в «фантазиях» язычества. Как бы настоятельно ни критиковал «характерное различие», например, Неандер. Характерное отличие» Неандера в том, что «в представлениях Евангелий только эффект божественного всемогущества при зачатии описывается как непосредственно творческий, не опосредованный обычным образом естественной причинностью, тогда как в этих мифических версиях, напротив, божественная причинность согласована с естественными причинами, божественное низводится в сферу природных явлений, появление божественного объясняется физически» — таким образом, сколько бы раз ни приводилось это различие, оно всегда сводится лишь к различию внутри сознания, к тому, что в язычестве божественное как конкретное противостоит человеческому как равное себе, а в христианском сознании божественное как чистое общее отделено от человеческого как эмпирически индивидуального. Поэтому конкретное как таковое может непосредственно входить в естественные отношения конечности и переживать их как свою собственную природу: для христианского взгляда такое допущение невозможно, и он не может естественным образом построить отношение божественного к конечному в конкретном. Оно довольствуется простой идеей всемогущества.
Поэтому христианская концепция неизбежно впадает в противоречие. Для нее Иисус — Богорожденный, и все же она не должна принимать всерьез категорию порождения. Но было бы очень жестоко поступать против нее, если бы сейчас отрицать одну сторону противоречия у Неандера — вместо того, чтобы объяснить ее самому — и утверждать, что выражение Сын Божий не взято в Лк 1, 35 в «физическом смысле». «Обычный взгляд на вещи у иудеев», на который ссылается Неандер, не может дать нам здесь повода для беспокойства, поскольку мы имеем дело с христианским Евангелием, и в его тексте младенец от Девы называется Сыном Всевышнего и Сыном Божиим, потому что сила Всевышнего осеняет Деву. В этом представлении нет ничего, кроме противоречия, заключающегося в том, что выражение Сын Божий зачато физически и в то же время не зачато, и рефлексия вновь отворачивается от физического и чувственного, поскольку божественное в своей чистой всеобщности представлено как порождающее. Здесь нет ничего, кроме немыслимого противоречия раны, которая может удержаться только в созерцании, которая не просит опосредования, но не перед разумом, которая просит рационального закона и не находится в неопределенности. В языческих представлениях о происхождении Богомладенца еще нет этой неопределенности и нет формы чуда, потому что божество предстает как конкретная личность; но как только божество предстает в своей всеобщности, оно действует чудесным образом и так, что ход представления остается тайной. Но какой же это вывод, если большая неопределенность, которую вещь имеет для зрения, тем более доказывает историческую истину?
Спросим, наконец, ту упрямую концепцию, которая признает языческий элемент в качестве основы библейских воззрений только в том случае, если он все еще показывается ей как таковой в библейском, может ли она еще показать нам усвоенные продукты питания в их прежнем виде в живом организме. Ну, как это невозможно здесь, так тем более невозможно в духовной сфере восприятия. Так и с ветхозаветными элементами: они ассимилировались с высшей идеей, попали под ее влияние, и поэтому для них стало невозможным проявиться в своей прежней самостоятельности. В ярком изображении Луки даже не вспоминается, что здесь, в чудесном рождении сына Девы, исполнится древнее пророчество. И только поздний Матфей, для которого это видение уже стало серьезным произведением и предметом размышлений, добавил в свой труд это напоминание о ветхозаветной предпосылке.
Если бы разница между Ветхим и Новым Заветами заключалась только в том, что в последнем пророчество исполнилось, и притом как бы непосредственно повторилось в исполнении, только в виде эмпирической видимости, то и эта