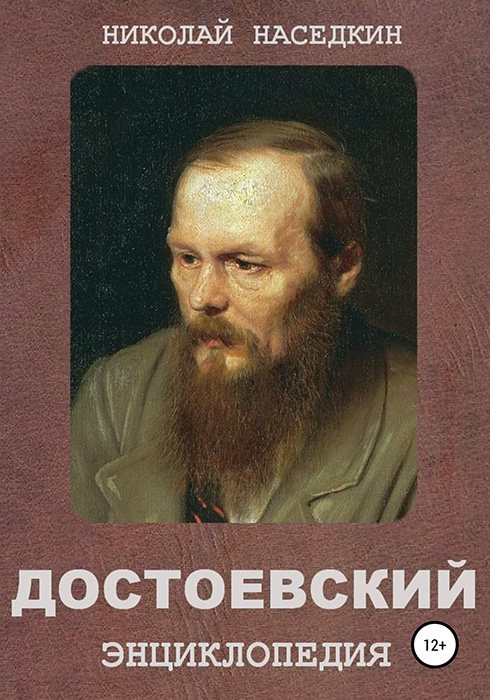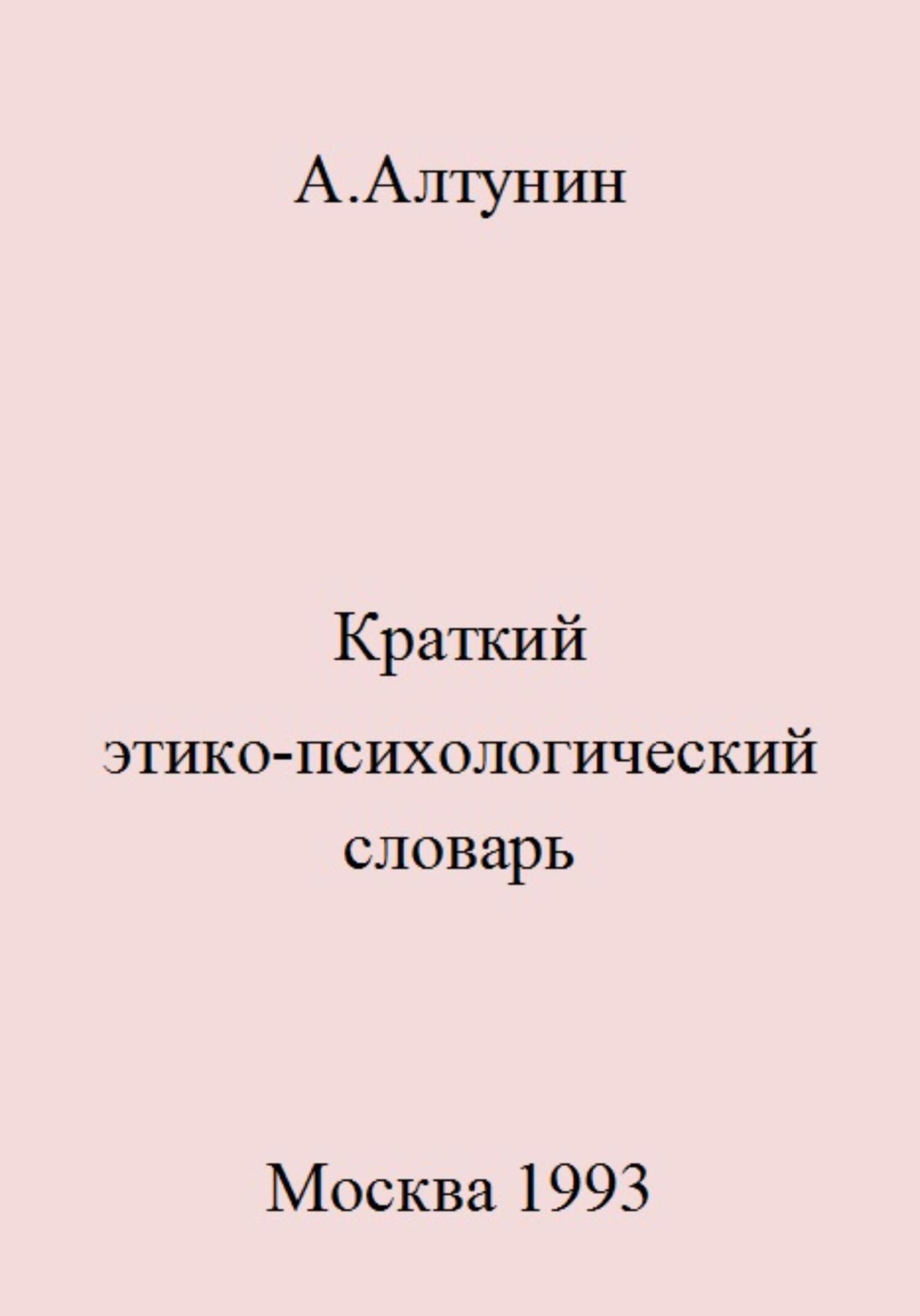Книга Достоевский in love - Алекс Кристофи
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Другой пациент чихнул в клетчатый бумажный платок, полный табака. Он чихнул снова, сморщив нос так, что обнажились старые почерневшие зубы в слюнявом красном рту. Затем он развернул платок, изучил мокроту и тут же вытер ее о коричневый больничный халат. Я тотчас же невольно начал осматривать только что надетый мною халат. Тут я заметил, что он уже давно возбуждал мое внимание своим сильным запахом; он успел уже на мне нагреться и пахнул всё сильнее и сильнее лекарствами, пластырями и, как мне казалось, каким-то гноем, что было немудрено, так как он с незапамятных лет не сходил с плеч больных[154].
Именно в больнице Федор начал понимать, что это значит – быть высеченным в Сибири. Две шеренги солдат с палками в руках становились друг напротив друга, формируя внушительную «зеленую улицу». Арестанта обнажали, руки ему привязывали к прикладам, и два унтер-офицера тащили его до конца улицы (потому что после первых нескольких ударов тот неизбежно спотыкался). Как правило, можно было вынести пятьсот, тысячу, даже полторы тысячи ударов, но если наказание составляло больше, доктора настаивали на разделении его на части, и после первой половины арестанта уводили в военный госпиталь на перерыв, чтобы увеличить шанс пережить вторую часть. Федор однажды встретил человека, которого наказали четырьмя тысячами ударов, и он сам казался несколько удивленным тому, что смог выжить. Те, которые выходили из госпиталя, чтоб идти под вторую половину, бывали обыкновенно мрачны, угрюмы, неразговорчивы. С таким и сами арестанты никогда не говорят и не стараются заговаривать о том, что его ожидает. Ни лишнего слова, ни утешения[155]. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определительно узнать, как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить? Но я никак не мог добиться удовлетворительного для меня ответа. Все давали тот же ответ: больно; жжет, как огнем; как будто жарится спина на сильном огне[156]. Арестанты говорили, что розги хуже палок – почему-то сильнее раздражают кожу, и с пятисот розог можно забить человека до смерти.
Больница была единственным местом, где Федор мог вести записи на бумаге, тайно принесённой пожалевшим его доктором. Он вел записи о встреченных им арестантах – кроме Петрова, был Аристов, молодой человек, из дворян, умный, красивый собой, образованный, имевший способности; совершенно павший нравственно, Федору он виделся каким-то куском мяса, с зубами и с желудком, с неутолимой жаждой телесных наслаждений, за удовлетворение малейшего из которых он способен был убить. Был Ильинский, молодой человек, обвиненный в убийстве отца, хоть он и утверждал, что невиновен, и не казался способным на это. Любой из них мог стать увлекательным персонажем, когда Федор вернулся бы к сочинению. Теперь у него были бессчетные часы, чтобы обдумать собственную жизнь. Когда я лежу на больничной койке один, оставленный всеми, кого я так много и сильно любил, – теперь иногда одна какая-нибудь мелкая черта из того времени, тогда часто для меня не приметная и скоро забываемая, вдруг приходя на память, внезапно получает в моем уме совершенно другое значение, цельное и объясняющее мне теперь то, чего я даже до сих пор не умел понять[157]. Но доктор не мог защищать его вечно, и сразу после выздоровления Федора отправили обратно в острог.
Один из арестантов, поляк по фамилии Рожновский, казался удивленным, увидев его живым. Оказалось, что в больничные записи прокралась ошибка, и Федора объявили умершим. Несмотря на очевидное доказательство обратного, Рожновский и несколько других арестантов с тех пор стали звать его мертвецом.
Я наконец освоился с моим положением в остроге. В сущности, мне надо было почти год времени для этого, и это был самый трудный год моей жизни. Мне кажется, я каждый час этого года помню в последовательности[158].
Сильнее физических невзгод тяготило отсутствие новостей от Михаила и друзей из Петербурга. Проходили сезоны, публиковались новые работы, возникали новые жанры, новые темы, новые виды персонажей. Нельзя сказать, что он совсем не мог читать или писать, но оба эти занятия были строго ограничены. У него было Евангелие, переданное женой декабриста Фонвизина; один из конвойных был настолько добр, что принес ему пару романов Диккенса. Писать он мог, только когда в госпитале освобождалась постель, в которой один из лекарей иногда позволял ему отдохнуть. Однажды ему удалось написать Михаилу письмо и по официальным каналам отправить его, но ответа он так и не дождался. Я теперь от вас как ломоть отрезанный[159]. Другие политические заключенные получали письма – так почему не он? Неужели Михаил не побеспокоился ему написать, хотя бы сообщить, что здоров? Возможно, он принял первый же отказ от раздраженного чиновника? Был ли он еще жив? Что случилось с его детьми?
Записывать ли всю жизнь, все мои годы в остроге? Не думаю. Эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что во всё это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебирал всё до последних мелочей, вдумывался в мое прошедшее, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение. Я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде[160].
Времена года сменяли друг друга. Летом арестанты ходили обжигать кирпичи за три или четыре версты от крепости, а после несколько сотен шагов тащили их на строительство новых казарм. Короткие ночи они проводили, расчесывая укусы вшей, а в пять утра, едва только зуд спадал, их поднимали. Арестанты ходили на работу с Васькой, прибившимся к ним однажды красивейшим белым козлом, во главе колонны. Они оплетали его рога цветами и вешали на шею венки; в мастерской даже поговаривали о том, чтобы позолотить рога. В лагере для смеха ему позволяли запрыгивать на стол и бодать людей. Но однажды майор остановил их на пути на работу и приказал козла забить, сварить и добавить в арестантский суп.
Кажется, еще сильнее грустишь о свободе под ярким солнечным лучом, чем в ненастный зимний или осенний день