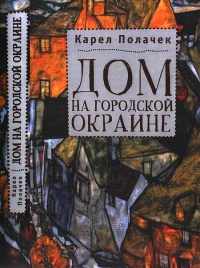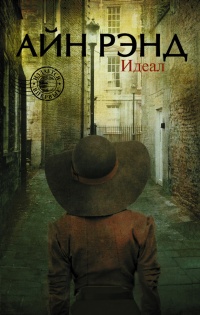Книга Городской пейзаж - Георгий Витальевич Семёнов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И бросила окурок на пол.
Незадолго до Нового года, в один из вечеров, на заснеженной улице, светло припорошенной и нарядной, протекающей, как речка подо льдом, меж высоких отвалов убранного снега, Ра Клеенышева вышла наконец на Влада. Она его заметила раньше и долго шла за ним в отдалении, не решаясь напасть на него на виду у прохожих. Она знала дом, откуда он вышел с лиловоглазой Эрикой, и догадывалась по его настроению и по шатающейся походке, куда он направится дальше: она успела изучить его маршруты, когда была с ним.
В морозном воздухе шевелились мельчайшие снежинки, поблескивая в свете фонарей. Все было убрано снегом, который даже на мостовой не таял, прикрыв соленую кашицу свежей порошей. След проехавшей недавно машины подчеркивал двумя черными полосами зимнее запустение тихой улицы, ее глушь и пустынность, ее похожесть на реку под тонким еще льдом: каждый шаг опасен, а лед поет и гудит под ногами.
Ра Клеенышева вышла из-за угла дома, из своей засады, когда Влад приблизился вплотную, и, ошеломив его быстрым своим и неожиданным наскоком, со словами:
— С наступающим тебя, Влад! — которые вопреки ее воле вырвались криком, сильно, с разворотом корпуса, наотмашь ударила его по уху.
Тот не удержался на ногах и от неожиданности повалился в сугроб, но не успел подняться, как снова получил сильный и очень удививший его удар, точно палкой, и опять упал, почувствовав кровь на губах, капающую из онемевшего носа.
Ра налетела на него и, не давая подняться, не помня себя, била крепким, промороженным носком сапога, била с остервенением истеричной женщины, норовя попасть по лицу, по голове, которую он защищал скрюченными руками, прося ее сквозь дребезжащий, хихикающий смех остановиться.
— Ты что! — восклицал он. — Ты что ж делаешь?! — И не переставал хихикать, пытаясь подняться на ноги. — Мне же больно! Собака!
Он с трудом поднялся и, горбатясь под ее отчаянными ударами, пряча лицо, ощупывая с крайним удивлением окровавленный подбородок, протянул к ней черные от крови пальцы.
— Видишь? Ты что делаешь-то?! — сказал он сорвавшимся от обиды голосом. — Я ж не могу тебя ударить. Была б ты мужиком! — вскрикнул он, резко замахнувшись. — Горбатой бы сделал.
Под этот крик, изловчившись, она снова сильно и метко ударила его по лицу, свалила с ног, будто он стоял на скользком льду, и, свалив, исторгнула из груди рычащий звук, задохнулась от злости и ударила по спине окаменевшим на морозе носком сапога.
На этот раз она сама почувствовала, что удар получился.
— Ах, гадюка ! — вскричал Влад, потянувшись от боли. — Что же ты делаешь-то! Я ж не могу! Ты ведь пользуешься, что женщина. Я б тебе врезал сейчас! Больно же мне!
Он поднимался и опять падал, закрывая руками голову, и опять пытался подняться на ноги и поднимался враскоряку, пошатываясь то ли от вина, то ли от побоев.
Наконец Клеенышева выдохлась и, запыхавшаяся, испуганная тем, что так легко избила здорового парня, сказала, переводя дыхание:
— Это… тебе за все! Лапонька…
И вдруг увидела ту, о которой совсем забыла в пылу драки. Эрика, кашляя от хохота, держалась за живот и, согнувшись, переступала ногами на хрустящем снегу.
Влад, белый от снега, с окровавленным лицом, пытался поднять шапку и никак не мог этого сделать — его шатало, он поскальзывался и падал, как клоун.
— Собака, — бормотал он. — Пользуешься, что не могу ответить… Ах, соба-ака!
В голосе Влада слышался мычащий, еле сдерживаемый всхлип.
Ра, напялив шапку на его голову, на гущину упругих волос, набитых снегом, толкнула его, крикнув в слезах:
— Иди к своей! А то лягушку родит от смеха! Дурак!
И побежала прочь. Она бежала, пока несли ноги, потом долго шла, точно в гудящем и ревущем вихре, ничего не видя и не слыша вокруг. Она не слышала, как под бегущими ногами всхрапывает жеребенком холодный снег, будто у нее оборвалась всякая связь с миром, который был прозрачно-ясен и тих в эту предновогоднюю ночь, разноцветно помигивая елочными лампочками в полутемных окнах людей. Лишь в голове у нее гудел угрюмый и все усиливающийся гул, похожий на шум леса, над которым нависла грозовая туча.
Со стороны могло показаться, что она пребывает в глубокой сосредоточенности, что у нее пытливый и наблюдательный ум и что она не может отвлечься от решения сложной и неведомой людям задачи. Она хмурила тугую кожу на лбу, которая собиралась бесформенными складками, напрягала взгляд опухших от слез, покрасневших глаз, точно вглядывалась в какую-то ускользающую от нее, мерцающую впереди точку. Лицо ее было болезненно-желтым и некрасивым, губа подобралась, утратив нежность и придав лицу зябкое, скорбное выражение обиженной женщины…
Долго рассказывать, как тяжело переносила Ра Клеенышева свое падение, сколько слез было пролито и каково было матери ее, которая не могла понять перемены, происшедшей с дочерью. Куда девались ее заносчивость, ее брезгливое нетерпение, ее взбалмошность и пугающая смелость… Бывало, летним вечером вдруг раздавался на улице зычный свист, в ответ на который кто-то игриво басил ломающимся голосом: «Ыгы-гы-гы! Го-го!» — и слышался гулкий топот, позвякивание дешевой гитары или бешеный ритм магнитофонной записи, а потом пугающий все живое вокруг резкий свист резал ледяным ножом тишину. Если дочь в этот вечер сидела дома, она тут же бежала и распахивала окно, ложилась животом на подоконник и внимательно всматривалась в потемки улицы, пытаясь разглядеть сквозь густую листву знакомых ребят, без которых она не могла жить. Лицо ее оживлялось надеждой, она вся превращалась в слух, слыша в диковатых выкриках и свистах что-то очень заманчивое и призывное, у нее заколачивалось сердце, если она узнавала своих; торопливо причесывалась, обувалась, мысли ее были уже далеко, она уже шла среди басистых и сильных, смелых ребят, слушала их магик, посмеивалась, оглядывалась по сторонам, смеясь над испуганными прохожими. Мать недовольно и тоже испуганно говорила ей, когда дочь убегала на улицу: «Бандиты какие-то пройдут, а она уже — одна нога здесь, другая там! Господи, чего они тебе?! Мать бы пожалела!» На что дочь удивленно откликалась: «Какие же это бандиты? Скажешь тоже! Нормальные ребята».
Теперь не то. Теперь ее не выгонишь из дома. Стала тихая и задумчивая и даже ласковая с матерью, жалея ее, усталую, доводя до счастливых слез… «Мамочка, милая моя, — говорила она теперь, глядя на нее провалившимися, потемневшими глазами, — давай я тебе руки твои поглажу, давай