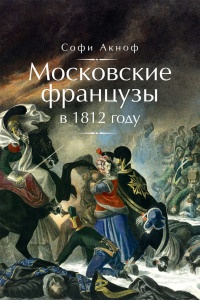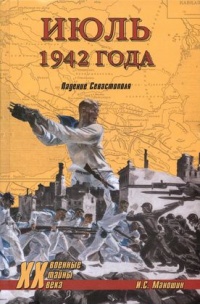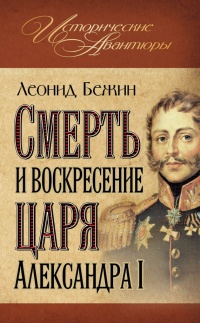Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В 1881 году Николай Павлович решил при жизни произвести раздел имущества между своими сыновьями. Дом на Лубянке продали Российскому страховому обществу. (И теперь там штаб-квартира КГБ. — Прим. ред.). Главная часть состояния — нижегородские заводы — досталась Николаю Николаевичу, который вместе с тем принял на себя погашение всех отцовских обязательств (в том числе выплату 200 тысяч рублей сестре Ольге Николаевне). Филипп Николаевич, после того как из денег, реализованных от продажи дома, в третий раз оплатили его долги, получил в пользование имение Осташево (без права продажи), а Дмитрий Николаевич — имение Ботово, где и поселился, занявшись сельским хозяйством и земской деятельностью (он был вскоре выбран председателем Волоколамской уездной управы, а впоследствии — Московской губернской управы).
Войдя во владение нижегородскими заводами, Николай Николаевич учредил при них нечто вроде опекунского совета, ведающего выплатой обязательств, но с проведением выплаты как будто не торопился. Я слышала, что Ольга Николаевна была даже вынуждена написать императору Александру III письмо, в котором всеподданнейше просила воздействовать на ее брата, который не платит долгов.
В начале 80-х годов у Николая Николаевича Шипова было пятеро детей (четыре дочери и один сын). Он был командиром кавалергардского полка. Все это требовало больших средств, а с деньгами бывало подчас так туго, что дело доходило до сдачи в заклад бриллиантов. Об этом знала императрица Мария Федоровна и, когда на торжественных приемах она не усматривала на плече Софьи Николаевны фрейлинского шифра, то укоризненно качала головой и говорила: «Софи! Что, опять?!» Эти подробности я знаю от второй дочери Шиповых — Дарьи Николаевны, с которой я стала очень близка лет с шестнадцати. Если в силу материальных недоразумений между Шереметевыми и семьей Николая Николаевича и произошло некоторое охлаждение, то оно отнюдь не распространилось на племянницу Довочку, которую любили у Сухаревой за ее доброту, веселый характер и за то, что «в ней нет ничего петербургского» (в устах московских Шереметевых это было большой похвалой).
В первый раз я увидела Довочку, когда мне было лет тринадцать-четырнадцать, на обеде у Филиппа Николаевича Шипова, который в то время был управляющим московским отделением Дворянского банка и жил в казенной банковской квартире на Садовой-Спасской. Дарья Николаевна вместе со своим мужем Петром Николаевичем Давыдовым (внуком партизана) остановилась на несколько дней в Москве, проездом из своего саратовского имения за границу, и объезжала родственников. Когда она, очень высокая, стройная, в черном гладком бархатном платье с высоким воротом, с крупными бриллиантами в ушах и улыбающимися глазами вошла в столовую, я почувствовала в ней если не петербургский, то во всяком случае и не московский тон. В ту пору Довочка была очень lady-like.
Петр Николаевич, шумный, говорливый, подвижной, был на полголовы ниже жены. За столом он покрывал все голоса своими громкими и блестящими французскими фразами, произносимыми с большим апломбом. После обеда, оглушив нас столь же громкой, бравурной игрой на фортепьяно, он уехал в клуб, где его ждала карточная игра. (Давыдов был страстным игроком и одним из основателей Нового клуба в Петербурге на Дворцовой набережной. В этом клубе произошел большой скандал, когда Давыдов уличил генерала Галла в нечестной игре.)
Дарья Николаевна относилась к мужу дружески-спокойно. На обеде у дяди Филиппа она после его отъезда весело продолжала шутить с окружавшими ее двоюродными братьями Шиповыми и Шереметевыми и как будто не замечала его отсутствия. В 1910 году Давыдов скоропостижно умер, сравнительно молодым человеком. Дарья Николаевна осталась независимою, богатою вдовой. Детей у нее не было. Я не знаю, как это случилось, но в 1912 году мы с ней, несмотря на разницу лет, оказались большими друзьями, причем Довочка меня всячески баловала. Широкая и добрая по натуре, она относилась ко мне с детской непосредственностью и прямолинейностью. Прямолинейность мышления доходила у нее до маниачества, а маниачество с годами развивалось по одной строго определенной линии. К сорока годам Довочка казалась уже не совсем нормальной, и люди невольно вспоминали, что ее мать, Софья Петровна, несколько раз заболевала серьезным душевным расстройством.
Idée fixe Довочки была крайне своеобразна: выросшая в эпоху Александра III и близкая к его двору, Дарья Николаевна привыкла ставить Россию превыше всего, любить Францию и ненавидеть Германию. Ее ненависть к Германии впоследствии перешла на персону Вильгельма II и отчасти на императрицу Александру Федоровну. Повсюду ей мерещились германские козни, и даже мелкие личные неудачи она приписывала действию «темных немецких сил». Спорить на эту тему было бесполезно. Вильгельм подкупал ее горничных, которые, по его заданию, доставляли ей всевозможные неприятности: чаще всего рвали новые чулки. Лекарства из аптеки тоже в любой момент могли быть «им» подменены какой-нибудь отравой. Дарья Николаевна торжествовала, когда разразившаяся в 1914 году война как будто оправдала ее предвидения германской опасности.
Но я забежала на целое десятилетие вперед. О том, как мы с Девочкой отмечали столетие Отечественной войны на Бородинском поле, я буду говорить позднее, а пока, в виде компенсации за устремление вперед, хочу повернуть лет на пятнадцать назад и перенестись в обстановку придворных балов времен Довочкиной юности и вспомнить два экспромта, записанные Мятлевым в ее carnet de bal. Отнюдь не преследуя цели щеголять в своих записках чужим остроумием, я привожу эти стихи, которые запомнила со слов Дарьи Николаевны, только на тот случай, если сам автор о них забыл и они не будут помещены в полном собрании сочинений в разделе «юношеские произведения».
Осенью 1905 года грянули первые революционные раскаты; необходимость реформ висела в воздухе. К власти призвали князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского, который в качестве министра внутренних дел должен был объявить «политическую весну». В семье Шереметевых (за исключением дяди Коли) его деятельность (или, вернее, намерения) не вызывали никакого энтузиазма. Говорили: «Пепка Мирский — прекрасный человек, но какой же это государственный ум?!» Видя, как рушатся незыблемые устои русской жизни, Борис Сергеевич моральную ответственность за этот беспорядок крайне наивно возлагал на отдельных «левонастроенных» лиц своего же класса, вроде Дмитрия Николаевича Шипова, Георгия Евгеньевича Львова, Павла Долгорукова.
Большие толки вызвало в то время «либеральничанье» графа Нессельроде, который творил в Саратове какие-то невообразимые вещи, вплоть до раздачи земли крестьянам, и, что еще хуже, отправился с Павлом Долгоруковым в Париж с целью уговорить французов не давать денег русскому правительству. За это последнее Нессельроде был лишен придворного звания.