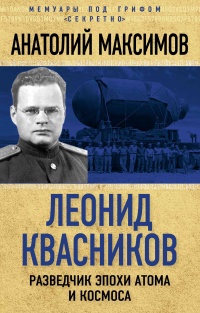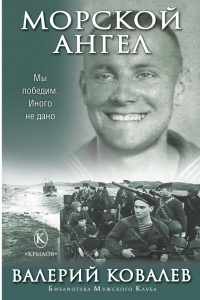Книга Безродные шпионы. Тайная стража у колыбели Израиля - Матти Фридман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Описывая те времена, сотрудники не выставляют себя героями и как будто считают, что выполняли свой долг. Но если мы откажем им в героизме, это будет ошибкой. У солдата есть командиры, он действует по уставу, вокруг него товарищи, смягчающие удары. Гамлиэль тоже был солдатом, только без командира и без военной формы. Его товарищи были слишком далеко. Такова участь всех разведчиков. Разница в том, что когда ты заслан ЦРУ, то на твоей стороне Лэнгли[7] и США. Из какого-нибудь закоулка или гостиничного номера они не видны, но ты знаешь, что Центр существует, осознаёшь его могущество и черпаешь в этом силу. Об этих людях нельзя было сказать ничего подобного. У них не было страны — в начале 1948 года Израиль был еще не фактом, а мечтой. Если бы они пропали, их бы никто не нашел. Даже искать никто не стал бы. Будущее заволакивал густой туман. И все же они шли поодиночке на смертельный риск.
Засланному в Ливан Гамлиэлю присвоили псевдоним Кедр; у евреев сложилась наивная привычка придумывать кодовые обозначения, которые с легкостью расшифровал бы любой профан. Например, агенты, организовывавшие в то время подпольную эмиграцию из Ирака, обозначались словом «арци», то есть «моя земля», ясно указывавшим на Эрец-Исраэль. Довольно долго один из командиров Хаганы, выходец из Франции, носил кличку Француз. Впрочем, в первые месяцы 1948 года псевдоним Гамлиэля не имел большого значения, поскольку разведчик не располагал никакими каналами связи.
Магазин Гамлиэля находился в Узаи; ныне это бетонные трущобы неподалеку от международного аэропорта Бейрута, а тогда это был сонный приморский райончик вдали от шумного городского центра. По ночам этот отрезок побережья был безлюден — удобное обстоятельство, позволявшее незаметно и быстро зарыть в песок то, что нужно спрятать от чужих глаз. А вот направление деятельности Гамлиэль избрал не самое подходящее: дамские наряды не пользовались высоким спросом, по крайней мере те, которые он пытался продавать, и магазинчик чаще всего пустовал. Это стало проблемой не только потому, что Гамлиэль нуждался в деньгах, но и потому, что открытый магазин без покупателей мог вызвать вопросы, откуда у него средства. Поэтому он перешел на торговлю сладостями.
Он прислушивался к разговорам, пытаясь выхватить что-то полезное, ловил атмосферу города, старался разобраться в его людях, но возможности передавать добытые сведения все не было. Его воспоминания о тех месяцах связаны главным образом с постижением тонкостей кондитерской науки: сколько платить за кило сахара, где приобретать оборудование, как строить отношения с партнерами по бизнесу — шиитом и друзом. Состоялось несколько неприятных бесед, в том числе со слишком проницательным владельцем соседней бакалеи.
— Знаешь что? — сказал тот однажды Гамлиэлю. — Что-то мы ни словечка не слышим от тебя о твоей семье. Ни единого!
Это был вроде бы невинный вопрос, но у Гамлиэля появилось знакомое ощущение приставленного к его виску пистолета. Он похолодел.
— Что тут скажешь? — ответил Гамлиэль, прибегнув к обычной тактике Арабского отдела, когда речь заходила о членах семьи. — Только одно: вся моя семья погибла, никого не осталось, я сам едва спасся и теперь с трудом выживаю. Это все, что я могу ответить.
Уловка как будто сработала, прилипала отстал. В Бейруте было много людей с похожими историями.
В том, что именно Гамлиэль стал первым агентом-лазутчиком, отправленным за границу, присутствовала логика. В отличие от остальных, имевших облик работяг и представлявшихся таковыми, у него получалось прикинуться человеком среднего класса; до войны он тоже выполнял задания, требовавшие владения языками и острого политического нюха. Именно Гамлиэль писал многие толковые донесения Отдела: о демонстрации «Братьев-мусульман», на которой он видел Нимра; о мирном собрании арабов-коммунистов, чей предводитель только что вернулся со съезда единомышленников в Лондоне; о шумной сходке националистов, где проводился сбор денег на войну с евреями. Впрочем, его политический нюх был обращен не только на противную сторону, но и на себя самого.
Гамлиэль попал в Палестину в разгар Второй мировой войны, сбежав из еврейского квартала Дамаска и тайно перейдя границу. Для него как еврея в арабской среде не было никакого будущего, поэтому он мечтал присоединиться к сионистам, стать пионером. Там, где он рос, в нем воспитали убежденность, что рано или поздно он вернется в Эрец-Исраэль. Трижды в день евреи повторяли молитву: «Да узрят глаза наши милостивое возвращение Твое в Сион». Гамлиэлю запомнились пасхальные седеры его детства, когда каждый участник традиционной трапезы клал себе на плечо кусок мацы, изображавший непосильный груз в фараоновом рабстве, а остальные спрашивали его по-арабски:
— Откуда ты идешь?
— Из Египта.
— Куда держишь путь?
— В Иерусалим.
Все за столом произносили: «Иншалла» («Если будет на то милость Аллаха»), — потому что, разговаривая по-арабски, евреи называли Бога его арабским именем, как все вокруг. При поразительных обстоятельствах середины двадцатого века Бог внезапно смилостивился, и в 1944 году Гамлиэль уже находился в кибуце, в Эрец-Исраэль, где очень старался быть тем самым возрожденным евреем, которого выдумало сионистское движение: пахарем и бойцом, сбросившим оковы диаспоры.
Но он быстро убедился, что отличается от остальной молодежи кибуца Эйн-Харод. Он говорил как араб, имел арабскую внешность; сабры считали его чужаком. Он стал представляться своим еврейским именем Гамлиэль вместо арабского Джамил, но это не решило проблему. Его любимой певицей была египтянка Умм Кульсум, любимым инструментом — арабская лютня уд, тогда как остальные слушали только европейские симфонии. Кормежка в кибуце была пресной, без привычных ему специй. Как-то раз он попросил у женщины, хозяйничавшей на общей кухне, немного растительного масла — хотел приготовить что-нибудь ближневосточное для себя и еще нескольких молодых сирийцев, — но услышал в ответ: «Нет, извольте есть в столовой, вместе со всеми. Нечего обособляться!»
Парни из Сирии проводили вечера в своей компании, беседуя по-арабски. Гамлиэль сидел с ними, но никогда не забывал, что не для этого сбежал в Эрец-Исраэль. Он завел друзей среди ашкеназов и стал проводить время с ними, слушая их разговоры о друзьях детства и о хорошеньких подружках. Его попытки рассказать о своей прежней жизни в Дамаске провалились — им оказалось неинтересно. «Это ведь я тянулся к ним, а не наоборот, — вспоминает он, — поэтому я был потерпевшей стороной, мне приходилось обходить острые углы и крутиться в колесе, которое всех затягивает, никого не щадит». Это умение пригодится ему и позже. «Любому разведчику, — утверждает Гамлиэль, — нужна инстинктивная приспособляемость, умение не ударяться об углы, встраиваться в общество». Правда, тогда он был еще не разведчиком, а гордым юнцом, чутким к снисходительности, и, обходя углы, все равно ушибался.
Арабский отдел обратил на него внимание именно из-за этой непохожести на остальных, которую он старался сгладить. Гамлиэль не мог не откликнуться на призыв послужить нации в Пальмахе и отправился из кибуца в лагерь Отдела. Там выяснилось, что он, говоря его собственными словами, вернулся «к прежней жизни, в арабское, восточное общество» — то самое, от которого хотел удрать.