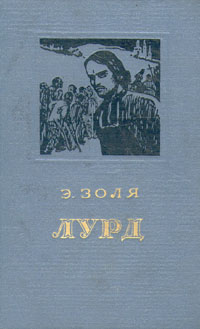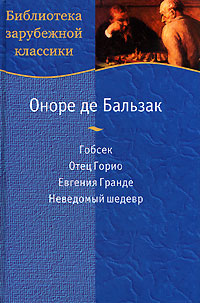Книга Третья фиалка - Стивен Крейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
После ужина они с отцом вышли в сад, закурили и стали прохаживаться под яблонями.
— Ну что, через пару дней я, наверное, вернусь в Нью-Йорк.
— Да? — спокойно произнес отец. — Хорошо, Уильям.
Через несколько дней Хокер, который пока еще так и не уехал, подошел к отцу на скотном дворе:
— Тебе может показаться, что я забыл и вас, и дом, и тех, с кем здесь водил знакомство, но поверь мне, это не так.
— Угу, — ответил старик. — Ты когда уезжаешь?
— Куда? — спросил Хокер, заливаясь краской.
— В Нью-Йорк.
— Не знаю… Я об этом еще не думал… На той неделе, наверное.
— Понятно. Делай как знаешь, Уильям. Тебе известно, как мы с мамой и девочками радуемся, когда ты приезжаешь домой. Да, тебе это известно. Но поступай, как считаешь нужным, так что, если тебе, Уильям, надо возвращаться в Нью-Йорк, уезжай.
— У меня там много работы… — сказал Хокер.
* * *
Время от времени мать, оставаясь наедине с дочерьми, принималась размышлять вслух:
— А Уильям в последнее время стал намного лучше! Просто диву даешься. Раньше все злился и мрачился, хотя я понятия не имела, в чем дело, но теперь опять стал таким же замечательным, как всегда.
* * *
— Ты бы почаще заглядывал в пансионат, дурачина, — сказал Хокеру Холланден.
— Я был там вчера.
— Вчера! И что из этого? Помнится, еще совсем недавно ты не мог усидеть на ферме и двух часов в день.
— Ступай к дьяволу!
— На днях Миллисента получила от Грейс Фэнхолл письмо.
— Вот как?
— Да. Грейс пишет, что… По-твоему, эта тень отливает таким чистым пурпуром?
— Разумеется, отливает, иначе зачем мне ее так изображать? И что же она пишет?
— Ну что же, если это пурпур, то глаза явно меня обманывают. Я бы скорее назвал этот цвет синевато-серым. О господи, если бы все, что художники живописуют на своих полотнах, было правдой, то мир состоял бы исключительно из обжигающего пламени и яркого сияния.
Хокера его слова привели в бешенство.
— Холли, ты ровным счетом ничего не понимаешь в том, что такое цвет. Ради бога, замолчи, иначе я тресну тебя мольбертом.
— Хорошо-хорошо, я лишь хотел тебе сказать, что пишет в своем письме Грейс. Она говорит, что…
— Ну что же ты, продолжай.
— Не торопись, дай время. Ну так вот, она называет город глупым и говорит, что очень хотела бы вернуться в «Хемлок Инн».
— Да? Это все, больше ничего?
— Больше ничего? А ты чего хотел? Да, кстати, еще она передает тебе привет.
— Вот как? Спасибо.
— Вот теперь действительно все. Боже правый, для столь преданного человека, каким ты себя проявил, твой энтузиазм и интерес поистине безграничны.
* * *
— На следующей неделе Уильям возвращается в Нью-Йорк, — сказал отец матери.
— Да? Он мне ничего не говорил.
— Но это так.
— Ничего себе! И что он, по-твоему, будет делать там до сентября, Джон?
— А я почем знаю?
— Все это очень странно, Джон. Бьюсь об заклад… бьюсь об заклад, что он едет повидаться с этой девушкой.
— Уильям говорит, у него там много работы.
Морщинистый долго разглядывал содержимое небольшого платяного шкафа, служившего буфетом.
— Остались только два яйца и полбуханки хлеба, — заявил он.
— Вот черт! — отозвался Уорвиксон, лежа на кровати и попыхивая сигаретой.
Голос прозвучал угрюмо. Говорят, что именно мрачному тону он был обязан своим прозвищем Большое Горе.
Морщинистый взирал на шкаф и так и эдак, оглядывая его с разных сторон, — можно было подумать, что он хочет напугать яйца, чтобы их стало не два, а больше, а полбуханки превратились в буханку.
— Чума тебя разрази! — наконец воскликнул он.
— Слушай, заткнись, а! — крикнул ему с кровати Большое Горе.
Морщинистый сел с суровым видом.
— Ну и что будем делать? — сдвинув брови, спросил он.
Большое Горе выругался.
— Да пошел ты, инквизитор чертов! Что делать, что делать! Будто нельзя спокойно поголодать! До обеда еще два часа, а ты уже…
— Ладно, это понятно, но что мы все-таки будем делать? — настойчиво повторил Морщинистый.
Пеннойер, делавший пером какой-то набросок, оторвал глаза от бумаги и с осторожным оптимизмом изрек:
— Завтра мне заплатят в «Мансли Эмейзмент». По крайней мере, должны. Я уже три месяца жду. Завтра пойду к ним и все получу.
Друзья закивали:
— Ну конечно, Пенни, само собой разумеется, старина.
Морщинистый нервно и жалобно захихикал. Большое Горе издал горлом глубокий, утробный звук. Потом все надолго замолкли.
С улиц в комнату врывался ровный гул Нью-Йорка. Время от времени в запутанных коридорах старого, приземистого, закопченного дома, втиснутого меж двумя торговыми центрами, которым пришлось бы, наверное, склониться до самой земли, чтобы разглядеть это непонятно как сохранившееся строение (странно было, что рвущиеся к облакам небоскребы обошли его стороной), раздавалась чья-то тяжелая поступь.
В давно немытое окно прокрались первые закатные тени. Пеннойер отшвырнул перо, смял набросок и бросил его в кучу хлама, скрывавшего под собой стол:
— В такой темнотище много не наработаешь.
Он раскурил трубку, расправил плечи и с видом человека, дорого ценящего свой труд, прошелся по комнате.
Когда вечер окончательно вступил в свои права, молодые люди совсем загрустили — сгустившийся сумрак навевал тяжелые мысли.
— Морщинистый, зажги-ка газ, — в раздражении бросил Большое Горе.
Язычки синевато-оранжевого пламени вскоре осветили голые, покрытые эскизами стены, неубранную кровать в одном углу и кучу чемоданов с коробками в другом, диванчик, безжизненную газовую плитку и немаленьких размеров стол. На окне висели шторы цвета красного вина, а высоко на полке валялись гипсовые слепки, в складки которых плотно набилась пыль. По непонятной прихоти строителей длинный дымоход сначала уходил куда-то в сторону, но потом, будто осознав свою ошибку, поворачивал к отверстию в стене. На потолке замысловатыми узорами красовалась паутина.
— Ну что же, давайте есть, — сказал Большое Горе.
— Есть… — язвительно фыркнул Морщинистый. — Я ведь говорил, у нас осталось только два яйца и немного хлеба. Поэтому поесть, конечно бы, можно, только вот что?