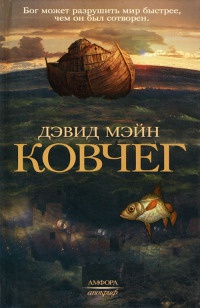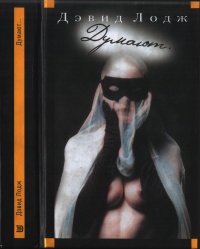Книга Город - Дэвид Бениофф
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Все мое детство прошло под музыку — и по радио, и в концертных залах. Родители были страстными поклонниками; таланта играть у нас в семье не водилось, но слушать мы умели — и гордились этим. Я на слух различал все двадцать семь этюдов Шопена по нескольким первым тактам; знал всего Малера — от «Lieder eines fahrenden Gesellen»[5]до незаконченной Десятой. Но того, что мы с Колей услышали в тот вечер, я ни разу не слышал — ни раньше, ни потом. Мелодия глушилась стенами и расстоянием, мешал ветер — но в этой музыке чувствовалась мощь. То была музыка войны.
Мы стояли под давно обесточенным уличным фонарем, опутанным паутиной инея. На юге грохотали огромные пушки, луна таилась за муслиновыми облаками — а мы слушали. Слушали все до последней ноты. А когда музыка стихла, что-то вдруг стало не так: слишком хорошо играл, слишком умело — и никаких аплодисментов. Мы постояли еще немного в тишине, глядя в черные окна. И наконец, выждав почтительную паузу, двинулись дальше по проспекту.
— Повезло, что рояль ему на дрова не порубили, — сказал Коля.
— Да кто бы он ни был, такому музыканту нельзя без инструмента. Может, это сам Шостакович. Может, он здесь и живет где-нибудь.
Коля презрительно глянул на меня и сплюнул на панель:
— Шостаковича три месяца назад эвакуировали.
— Неправда. Он во всех газетах на снимках в пожарной каске.
— Ну еще бы — герой. Только он в Куйбышеве, насвистывает себе мелодии, которые у Малера спер.
— Ничего он не пер у Малера.
— Я думал, ты за Малера горой. — Коля искоса глянул на меня, иронично скривив губу. Я уже привык к этой его манере — сейчас скажет колкость. — Разве еврей тебе не ближе поляка?
— Они же не воюют. Малер писал великую музыку. И Шостакович пишет великую музыку…
— Великую? Ха… Он бездарь и вор.
— А ты болван. И ничего не смыслишь в музыке.
— Зато я слышал, как в сентябре Шостакович по радио выступал. И рассказывал, что наш великий патриотический долг — драться с фашизмом. А через три недели он уже в Куйбышеве, кашку кушает.
— Он же не виноват. Они ж не хотели, чтобы он погиб, вот и заставили. Сам подумай, как было бы скверно для боевого…
— Ой, ну еще бы, какая трагедия. — В голосе Коли зазвучали профессорские нотки, которые он приберегал для самого ядовитого сарказма. — Великие не должны умирать. Дайте мне власть — я все бы сделал наоборот. Самых известных — на передовую. Шостакович пулю в голову получил? Зато какая в народе ярость всколыхнется! По всему миру! «Фашисты убили прославленного композитора». И Ахматова по радио выступала, помнишь? Все ленинградки должны быть мужественны, надо учиться стрелять… Ну и где она сейчас? В немцев палит? Да нет, что-то не верится. На Кировском гильзы точит? Куда там, в Ташкенте она, стишки про себя, любимую, кропает, которыми и прославилась.
— У меня мать с сестрой тоже уехали. Что ж они теперь, предатели?
— Твои мать с сестрой по радио не выступали, не рассказывали, какими мужественными нам всем надо быть. Слушай, я не рассчитываю, что все поэты и композиторы будут смельчаками. Я лицемеров не люблю.
Он потер перчаткой нос и посмотрел на юг, где небо освещали всполохи взрывов.
— Ну где уже этот твой чертов дом?
Мы только что свернули на Воинова, и я показал. Но не Дом Кирова, а пустоту. Однако сразу опустить руку мне в голову не пришло. Там, где раньше стоял Киров, высилась только груда битого камня, крутая гора цементных разломанных блоков, осыпи щебня и кладки, торчали гнутые прутья арматуры да под луной посверкивало битое стекло.
Будь я один, глядел бы на эти руины часами — и не понимал. В Доме Кирова прошла вся моя жизнь. В нем были Вера, Олежа и Гришка. Любовь Николаевна, старая дева с четвертого этажа, — она гадала по руке и штопала всем платья. Однажды летним вечером увидела, что я на лестнице читаю Герберта Уэллса и на следующий день подарила мне целую коробку книг: Стивенсон, Киплинг, Диккенс. Дворник Антон Данилович — он жил в подвале и орал на нас, когда мы во дворе кидались камнями или плевали с крыши, лепили неприличных снеговиков и снеговиц — морковки вместо писек, стерки вместо сосков. Заводилов… говорили, что он бандит, на левой руке у него не хватало двух пальцев, и он вечно свистел проходившим девушкам, пускай и дурнушкам. Дурнушкам он свистел даже громче, чтоб не унывали, наверно… У Заводилова пьянки-гулянки длились до зари, всегда играли самые новые джазовые пластинки — Варламов с его «Семеркой», Эдди Рознер… В коридор с хохотом вываливались танцующие мужчины и женщины в расстегнутых блузках, старики на него злились, а все детишки хотели, когда вырастут, стать такими, как Заводилов…
Мерзкий старый дом — в нем всегда воняло хлоркой, но это был мой дом, и я даже помыслить не мог, что когда-нибудь его не станет. Я побрел среди обломков, нагибаясь и отбрасывая куски цемента. Коля схватил меня за руку:
— Лев… Пойдем. Я еще место знаю, где можно переночевать.
Я вывернулся из его хватки. Я разгребал мусор руками. Коля опять схватил меня — и уже не отпускал.
— Здесь никого в живых не осталось.
— Откуда ты знаешь?
— Вон смотри, — тихо ответил он и показал на колышки с красными лоскутами, тут и там торчавшие из щебня. — Здесь уже раскапывали. Наверное, бомба упала еще вчера ночью.
— Я тут был вчера ночью.
— Вчера ночью ты был в «Крестах». Пошли. Пойдем со мной.
— Но люди же выживают. Я читал. Иногда по многу дней в завалах.
Коля еще раз оглядел руины. Ветер нес смерчики цементной пыли.
— Если кто и жив, голыми руками их не выкопать. А если будешь рыть всю ночь, до утра не доживешь. Давай. У меня друзья тут рядом. Нам надо переночевать.
Я покачал головой. Ну как мог я бросить свой дом?
— Лев… Ты сейчас главное — не думай. Ты просто за мной иди. Понял меня? Иди со мной.
Он за рукав стащил меня с горы битого камня, а я вдруг так ослаб, что даже не сопротивлялся. Усталость одолела во мне и скорбь, и злость, и отчаяние. Мне хотелось согреться. Хотелось есть. Мы брели от развалин Дома Кирова, и я не слышал своих шагов. От меня остался только призрак. Во всем этом городе больше никто не знал моей фамилии. Но себя мне жалко не было — на меня навалилось тупое любопытство: почему это я еще не умер? Вот пар изо рта идет, а рядом со мной шагает этот казацкий сын, то и дело поглядывает на меня, чтоб я не отставал, да смотрит в небо, не летят ли бомбовозы.
— Заходите, — сказала она. — Заходите же, вы совсем замерзли.
Сразу было видно, до блокады Колина подруга была очень красивой. Ее светлые волосы, теперь немытые, спускались на спину, губы еще не утратили полноты, а на левой щеке была ямочка полумесяцем — проступала, когда девушка улыбалась. На правой щеке ямочки не было, что странно. И я поймал себя на том, что дожидаюсь этих ее улыбок, только чтобы еще раз посмотреть на ямочку.