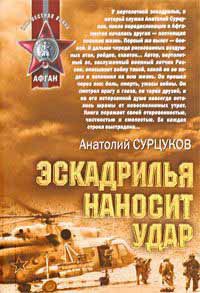Книга Владимир Богомолов. Сочинения в 2 томах. Том 2. Сердца моего боль - Владимир Богомолов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Товарищ подполковник, он не торопыга и с кондачка ничего не делает. Он подумает и решит!
Очевидно, поняв, что от принятия его предложения я воздержался или уклоняюсь, Алексей Семенович, снова напыжась, какие-то секунды с презрением смотрел на меня и неожиданно разгневанно выпалил:
— Ну и дурак!!! Слюнтяй!!!
От полноты чувств, от возмущения он энергично плюнул и с решительным видом направился к машине. Володька шел рядом, а я — поотстав, чувствуя себя виноватым, хотя ничего плохого вроде и не сделал.
Темноволосый, приземистый, с непроницаемым лицом сержант-водитель уже распахнул заднюю левую дверцу «мерседеса» и стоял наготове с вынутой из багажника большой, тугой, в красивом темно-сером чехле подушкой. Как только Алексей Семенович, поддерживаемый Володькой, опустился на заднее сиденье, сержант сноровисто подложил ему под руку подушку для удобства, проговорив вполголоса «Разрешите!», бережно расстегнул стоячий ворот кителя, затем проворно сел за руль и запустил мотор, заработавший ровно и тихо, как у новых автомобилей высшего класса.
— Подождите минуту!.. Не уезжай! — вдруг сказал Володька водителю и побежал в дом.
— Федотов! — повелительно позвал подполковник, и я поспешно шагнул к раскрытой задней дверце «мерседеса» и вытянул руки по швам. — Офицер должен не рассуждать и не слюнтяйничать, а действовать!.. И жди часа «Ч»! Впереди — Франция и Атлантика! Помни о плавках и о Ла-Манше! Только не позорь Россию своей мохнатой ж... — осекся он, но я сразу понял, что он хотел сказать. — Главное — не расслабляться!.. — властно повторил он. — Ты эту... как ее... Наталью — через Житомир на Пензу!.. На-а-мек ясен?.. — осведомился он и, так как я слышал это выражение в разговорах офицеров и, догадываясь, что оно означает, смущенно молчал, пояснил: — Ра-аком!.. Чтобы не выпендривалась и не строила из себя целку!.. Бери пониже — и ты в Париже!.. На-а-мек ясен?..
— Так точно! — подтвердил я, хотя высказывание или прибаутку насчет Парижа слышал впервые и осмыслить еще не успел.
— Штык! — решительно одобрил Алексей Семенович. — Или вдуй тете Моте, — несомненно имея в виду Матрену Павловну, неожиданно предложил он, к моему удивлению и крайнему стыду: она же мне в матери годилась, как же можно так говорить... — Влупи ей по-офицерски! Так, чтобы потом полгода заглядывала, не остался ли там конец!.. На-а-мек ясен?..
— Так точно!
В эту минуту мне показалось, что сидевший за рулем сержант сотрясается от беззвучного смеха, но, может, мне только показалось — я не сводил глаз с лица подполковника и видеть находившегося у меня за левым плечом водителя никак не мог.
— Штык!.. Или влупи Кикиморе! — очевидно разумея Сусанну, с ходу предложил Алексей Семенович и третий вариант. — Была бы п..да человечья, а морда — хоть овечья!.. Рожу портянкой можно прикрыть! — доверительно заметил или, может, как старший по возрасту и званию, делясь житейской мудростью, по-товарищески посоветовал он и, мрачно напыжась, с неожиданной жесткостью приказал: — Вдуть и доложить!!! На-а-мек ясен?
— Так точно! — подтвердил я, принимая все, что он мне сказал, за хмельную шутку боевого, весьма заслуженного, однако опьяневшего старшего офицера.
— Штык!
* * *
Наблюдая бабушку и деда, я с малых лет усвоил, что с пьяными и даже с выпившими не надо спорить или пререкаться, наоборот, им следует не возражать и по возможности поддакивать: проспавшись и протрезвев, они ничего подобного говорить не станут и, более того, будут стыдиться сказанного во хмелю.
Позднее, вспоминая и обдумывая этот вечер, я, к чести Алексея Семеновича, отметил: он приехал изрядно поддатый, выпил и здесь, на дне рождения, наверняка не менее полутора литров водки, речь его стала медленной, тяжелой, а взгляд насупленно-суровым и неподвижным, но ни одного матерного слова или непристойного выражения за столом в присутствии женщин он не допустил. Война окончилась совсем недавно, а в боевой обстановке, на передовой мат звучал несравненно чаще, чем уставные и руководительные команды; в родном Пятнадцатом Краснознаменном стрелковом полку майор Тундутов без «епие мать» вообще фразы не мог произнести — наверно, подобно многим, он был убежден, что матерные слова так же необходимы в разговоре, как соль во щах или масло в каше. Особенно врезались мне в память самая первая встреча и первые услышанные от майора фразы.
Перед тем с медсанбатовской бумажкой-бегунком я более полутора суток прокантовался в полусожженной лесной деревушке, где размещался штаб дивизии, — никак не могли оформить и подписать назначение, — и эти полтора суток я ничего не ел, а обратиться к кому-нибудь и попросить хотя бы положенное по аттестату все не решался, стеснялся: там не только офицеры, но даже писаря ходили важные и отчужденнонеприступные. У меня было всего два рубля, а стакан молока стоил десять, и потому наполнялся я только колодезной водой, и кишки у меня изнемогали от голода. Темной холодной ночью, продрогнув на пронизывающем ветру до нутра и подстегиваемый то и дело резкими окриками часовых, которые, соблюдая уставную бдительность, упорно не говорили, куда мне идти, а гнали назад или в сторону по лесу, я наконец с трудом отыскал нужную мне землянку.
Не без волнения и зыбкой радужной надежды ждал я в тот час встречи с третьим в моей скоротечной фронтовой жизни батальонным командиром. С первыми двумя мне не повезло: один был до озверения груб, напивался до невменухи и рукоприкладничал даже с офицерами, в результате чего, наделенный, видимо, более других чувством собственного достоинства ротный Елохин за полученный беспричинно, вернее, ошибочно удар прикладом в лицо вогнал в него шесть пуль из пистолета, а седьмую пустил себе в висок; второй же батальонный, наоборот, не пьянствовал, не дрался и матерился в меру, однако отличался нерешительностью или слабодушием и в тяжкую, трудную минуту боя остатков батальона в окружении под Терновкой скрылся ночью в деревню и спрятался там в погребе, где спустя сутки и был обнаружен спящим, после чего сгинул из полка без слуха и следа — как растворился.
Находясь перед тем по ранению в медсанбате, я прочел выпущенную военным издательством книжку о старой русской армии — сборник рассказов и повестей — и был отрадно удивлен неожиданным открытием: у Александра Куприна полковник Шульгович приглашал проштрафившегося подпоручика Ромашова к себе в дом, знакомил с женой и матерью и угощал необыкновенным обедом с разными винами и спаржей. В других рассказах или повестях офицеры говорили своим подчиненным «любезный», «дружище», «батенька», «голубчик» и даже фендриков — молодых прапорщиков и подпоручиков — называли по имени-отчеству; ко мне еще ни разу никто из начальников так не обращался, меж тем тогда, осенью сорок третьего года, после недавнего июньского Указа[57] началось возрождение традиций и духа старого русского офицерства, и неудивительно, что я, охваченный романтикой офицерского корпоративного товарищества, мечтал встретить подобного отца-командира.