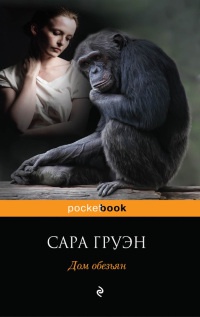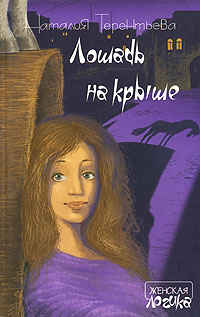Книга Процесс исключения - Лидия Чуковская
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Бродский отчаянно курил, дорвавшись донизу, и звонил Ласкиной и Гале Корниловой по поводу своих стихов (или переводов?). «Москва», «Знамя».
Потом мы вышли. Мороз. Я довела его до мостика, показала тропинку к могиле и ушла.
20/I 66. Переделкино
А в городе, в моей комнате живет Иосиф – как жил прежде Солженицын. Странный юноша. Радовался моей комнате, тишине и покою, темным занавескам, книгам – в первую же ночь, имея ключи, не пришел ночевать. Ночевал ли во вторую – еще не выяснила.
Странное существо – больное и привлекательное. Читал в Союзе с успехом свои стихи и переводы. Сидя у меня – пока я ждала такси, уже вручив ему ключи и объяснив ему все тайны замков и кранов, – читал мне наизусть Горбовского. Вкус точнейший, потому что он читал хорошие стихи Горбовского, а мне в журнале всегда попадались плохие. Потом мы заговорили о Мандельштаме и он вдруг сказал: «А я несчастнее его. Есть общее в судьбе, но я несчастнее». «Не грешите, Иосиф», – сказала я.
Он был накануне в «Новом Мире», у Твардовского, со своими стихами. Разумеется, отказ был предрешен – стихи не той системы.
– В ваших стихах не отразилось то, что вы пережили, – сказал ему Твардовский.
Странный упрек. А если б отразилось – он бы напечатал? И далее:
– Сейчас мне некогда, но, если хотите, я выберу время и потолкую с вами о ваших стихах.
– Не стоит, – ответил Иосиф.
23/I 66. Москва
В довершение радости: я дома! – тут же Иосиф: «И изгнанники в доме моем».
Мы встретились у входа. Он помог расплатиться и поднять вещи. Пришел и сразу заторопился (ждут друзья?), но попросил «Прозу» Цветаевой – на чуть-чуть. Пока я распаковывалась и мы с Марусей его переустраивали в маленькой комнате – он читал. Вскочил и схватился за сердце.
– Болит что?
– Нет. Но это ведь немыслимое чтение. Она одна все понимала – все поняла сразу. Маяковский поверил, пошел напрямик и пришел к обрыву. Ахматова и Мандельштам думали, что можно все-таки построить внутренний мир. А она поняла сразу – конец, гибель. И надо мерить себя и правду ею, только ею.
И дальше – слова о неизбежности гибели и что он хочет ее.
(Я ему немного рассказала о своей встрече с Цветаевой в Чистополе. Она: «Разве вы не видите, что все кончилось». – Я: «Все равно, я мобилизована, со мной дети… И у вас ведь сын». – «Я для моего сына только помеха. Ему без меня будет лучше».)
Я сказала Иосифу, что моя религия: 66-й сонет Шекспира. Что каждый человек – свет для кого-то. Погибнешь – и кому-то темней.
«Да другу худо будет без меня».
– Неверно. Им, всем нас любящим, будет лучше без нас… Мы им только мешаем.
Потом сказал тронутым голосом: «Мои старики»…
Читал мне стихи Горбовского: «Я свою соседку изувечу» – квинтэссенция коммунальной квартиры.
Вечером пришел, когда я еще не спала. Беглый разговор в маленькой комнате, где ему, он говорит, больше нравится, чем у меня.
Я ему прочла свое письмо в «Известия»{193}.
Ему очень по душе. Сказал грустно:
– Вот, все готовятся. А мне соваться нельзя – это будет во вред им.
Назавтра к 8 ч. 30 м. – ему на самолет в Ленинград. Утром, в 7 ч. 30 м., я его разбудила. Пила чай, он сварил себе кофе.
С нежностью об А. А.
«Единственная радость, которая еще осталась в мире». «Возле нее становлюсь комплиментщиком». «Чувствует она себя прекрасно, говорит: «РОЭ 7, хожу по лестнице не задыхаясь, сердце не болит. Не совершить ли мне еще какое-нибудь чудо – например, родить близнецов».
Оделся, взял чемодан, отдал мне ключи.
И улыбнулся на прощание открытой, доброй [улыбкой].
23/I 66. Москва
Да – еще.
За кофе: «Меня Сергеев сосватал. Я уеду под Ригу в какую-то келью. Там дешево жить. Все время надо уезжать… Я – пыль».
* * *
Иногда он кажется очень красивым – словно юноша-Блок.
«Переводить стихи больше не могу. Они меня душат. Лучше буду делать технические переводы».
10/VI 66. Пиво-Воды
День счастливый и больной.
Утром кончила писать о Фриде.
Подняла голову – на тропочке Иосиф и Толя.
Иосиф и Толя – это ведь и Фрида, и АА…
Сидели на скамьях у костра. Оба читали стихи, оба очень хорошие.
Потом Толя увидел ежа. Они бросились. Иосиф снял пиджак и поймал его. Они его отнесли к КИ.
23/IV 67
Люди…
Вчера утром Бродский; вечеромPeter Norman{194}.
Бродский читал – кричал – стихи. То, что он любит в своих стихах: длинное, виртуозное, абстрактно-философское, ироническое, до меня не доходит; зато такие стихи, как «В деревне Бог живет не по углам», кажутся мне прекрасными.
Сам он мирен, даже добр, но изнурен, болен.
25 января 68 г.
Другая боль: Иосиф. Он был опять, принес мне прочитанные им мои «Записки» с высокой похвалой: «это комментарий к ее жизни и творчеству». Жаль мне его очень. Он на перепутье. Деньги наконец скоро будут большие (ему устроил Жирмунский перевод Джона Дона), но он их, конечно, истратит зря, а надо бы устроить жилье, где бы он мог работать.
23 апреля 68
Вчера внезапно появился Бродский с какой-то молоденькой англичанкой, приятельницейАманды{195}, изучающей Епифания.
Иосиф гораздо спокойнее, ровнее; выглядит хорошо, розовый. Сообщил несколько неприятных вестей:
1) Толя подавал в Союз – чудак! – и его не приняли.
2) Его собственная, Иосифова, каша, на мели; издательство чего-то требует, чего он, конечно, не хочет.
Мельком Бродский обронил несколько интересных фраз. Он сказал, что всем обязан какому-то своему другу Гарри. «Я ныл, был болен, жаловался. Он мне сказал: «Ты ведь не тело». С тех пор я все понял».
1 января 69, среда
Бродский талантлив, умен, на границе гениальности, но всегда будет нищ и мало любим и неудачлив – как О. Э. [Мандельштам. – Е. Ч.], потому что он ничего человеческого не понимает и не хочет и не идет ни на какую другую работу, кроме поэзии, переводы – способ зарабатывать – делает неохотно.
Он совсем не литератор и очень мало человек – он только поэт, и это не сулит благополучия.