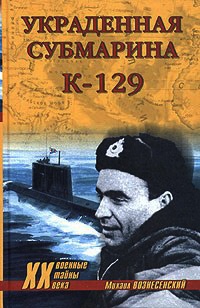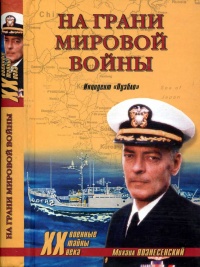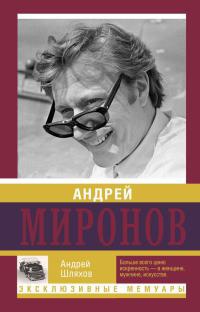Книга Андрей Вознесенский - Игорь Вирабов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Да-да, попался Андрей Андреич. «Глотал я лестные страницы о Резанове…» А самолет? Да лети оно все…
«Безусловно, в ванкуверские бухты заводил свои паруса Резанов и вглядывался в утренние холмы, так схожие с любезными его сердцу холмами сан-францисскими…» И было в этом нечто большее, чем только предприимчивость политика.
Там ранним летом 1806 года командор Резанов «ежедневно куртизировал Гишпанскую красавицу».
Там цвел миндаль.
* * *
«Через полгода я стоял на сан-францисской улице имени Аргуэльо. Крутая мостовая вела на холм, ввысь, в вековые кедры, в облака, в романтические времена очаровательной Кончиты».
Никита Лобанов-Ростовский, князь, вспомнит в своих «Записках коллекционера», как в Сан-Франциско, на вечере у Ольги Карлайл, внучки Леонида Андреева, его ждала приятнейшая встреча с гостями из Советской России — Вознесенским с Зоей и Булатом Окуджавой. Разговор зашел об истории камергера Резанова, в котором расчет слуги государева (успел создать Русско-американскую компанию для продвижения интересов России) ужился с подлинностью страсти к пятнадцатилетней (младше его на двадцать семь лет!) дочке коменданта крепости Кончите Аргуэльо.
Наутро жена Лобанова-Ростовского, Нина, встретилась с Андреем, чтобы съездить в Монтеррей, где находится кладбище ордена доминиканцев (миссии святого Франциска Ассизского) при церкви Богородицы Скорбящей, построенной еще испанцами в 1776 году (ее обычно называют коротко — миссия Долорес). Съездили, нашли ухоженные могилки Кончиты и ее отца.
Место захоронения Николая Петровича Резанова, заметим попутно, Вознесенскому найти не удастся. Командор был похоронен в Красноярске — где и скончался по пути в Петербург, — возле Воскресенского собора, на почетном месте, но… История сама по себе заковыристая — если вдуматься. Могила с надгробием в виде вазы нервировала еще в шестидесятых годах XIX века. Кого же — большевиков-то еще не было? А здешнего епископа Никодима — тот порывался убрать надгробие с глаз долой, ибо прихожане тусуются вокруг памятника, под окном собора, «курят табак, разговаривают и громко хохочут». Мешал памятник веру справлять, нравы поправлять. Никодиму горожане памятник снести не дали — заложили кирпичом окно, чтобы не нервничал. А ведь хотел, и снес бы — глазом не моргнул, что интересно. Но дело его не пропало зазря. Надгробие снесли-таки в 1936 году — теперь уж большевистский «никодим», укреплявший новую веру. В 1960-м исчезло и захоронение вместе с разваленным собором. Нелепо и спорить, что грешно и стыдно памятники валить, могилы топтать. Но вот ведь пример этот заставляет задуматься: отчего всякому укреплению веры и правды вечно памятники, могилы, память мешает? Дело совсем не в том, «оправдывать» или «не оправдывать» большевиков, дело вообще не в ярлыках, не в злободневной конъюнктуре, а в чем-то более глубоком. Память, какая есть, — не забор, чтобы перекрашивать. Злобой времена — прошлое, настоящее, будущее — не лечатся. Только любовью… Может, оттого «Юнона и Авось» и станет историей вечной — от тоски по любви?
Осенью 2000 года в Красноярск приехали американцы, мэр Монтеррея привез горсть земли с могилы Кончиты. Они-то были в полной уверенности, что здесь могила Резанова — место всеобщего поклонения. У них-то свои резоны, куда им до нашей душевности, у них прагматика голая: вот, мол, красивая история — с такой бы носиться, как с национальным достоянием. Впрочем, к визиту американцев спешно назначили место «перезахоронения» Резанова на Троицком кладбище. Водрузили мраморный крест с табличками медными (таблички, едва проводили гостей, отодрали местные искатели цветмета, так что надпись вырезать пришлось потом прямо по мрамору). Но через несколько лет, что правда, то правда, еще и в центре города открыли памятник. Да, а могила жены его, Анны Резановой, скончавшейся еще до того, как супруг отправился в Америку, сохранилась в Невской лавре в Петербурге…
Впрочем, вернемся к нашему рассказу — мы оставили Вознесенского с Ниной Лобановой-Ростовской у могилы Кончиты на кладбище в Монтеррее. Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский подарил в те дни поэту книгу Николая Сергиевского «Гишпанская затея» — как раз об этой печальной любви Резанова и Кончиты и о его сорвавшейся попытке основать губернию «Новая Россия» на месте нынешней Калифорнии… Все это было кстати. Поэма была написана — но работа над «Юноной» только начиналась. Ей еще предстояло стать рок-оперой. Причем гениальной.
Тогда же Андрей Андреевич встретился и с архиепископом Сан-Францисским, отцом Иоанном, авторитетным богословом и проповедником, урожденным князем Шаховским, братом Зинаиды Шаховской, когда-то печатавшим свои стихи и прозу под псевдонимом Странник. По словам поэта, письма отца Иоанна во многом помогли ему в работе над «Юноной и Авось». Кто-то и спустя десятки лет всерьез и с нескрываемым злорадством будет рассуждать о том, как неточна «Юнона» в исторических деталях, как не соблюдает каноны богословия. А что находил в стихах Вознесенского, в общении с ним архиепископ?
Кажется, отец Иоанн тоньше многих критиков почувствовал Вознесенского. Вот что написал он в «Русской мысли» (13 июля 1978 года):
«Я рад был принять Андрея, прежде всего, как земляка, москвича, прибывшего с пылу зимы московской. Рад был его встретить и как подлинного русского поэта. И вот мы встретились в Сан-Франциско с Вознесенским, милым, душевным человеком.
Я ему подарил кое-что из своих книг, а он мне свою последнюю книгу, вышедшую в 1976 году: „Витражных дел мастер“. В этой книге есть ценные страницы его новых стихов. В них видны черты, если можно так сказать, „сконцентрированного реализма“. Бывает (вы согласитесь) водянистый реализм (и в прозе и в поэзии), а бывает сконцентрированный, сгущенный, идущий из „центра“ к центру человека.
Я люблю все такое, идущее „от сути к сути“. Тут слышно веяние Логоса Божественного, смысла всех вещей…»
Что за религия в космосе Вознесенского? Давнее его стихотворение так и называлось: «Лирическая религия». Формула ее верна, вопреки всем наукам: «Пусть с кафедр всплеснут десницами / Эвклиды и Энгельгардты. / 2 = 1>3 000 000 000!» Любовь, слияние двоих делает каждого сильнее трех миллиардов не познавших истинности чувств. Что за вера ведет их — ответят песней матросы:
Чтобы кто чего не подумал худого, напомним в скобках: морской термин «травить» означает управление парусами с помощью каната.
О Резанове и Кончите написал балладу Брет Гарт — «Консепсьон де Аргельо» (напечатана она в 1875 году в сборнике стихов «Эхо в Нагорьях»). Певец калифорнийских золотоискателей и сделал для удобства слога Резанова графом. Вознесенский взял у него этот резановский титул взамен камергерского. В Центральном историческом архиве он изучил рукописи Резанова. «Женственный, барочный почерк рисует нам ум и сердце впечатлительное». Может ли поэт не влюбляться в своего героя? Конечно, может, — но не Вознесенский, которому как раз важнее всего — чувствовать героя, как себя самого. «Какова личность, гордыня, словесный жест!»; «слог каков!»; «как аввакумовски костит он приобретателей»; «как гневно и наивно в письме к царю пытается исправить человечество»… Отношение автора к Кончите, ждавшей возлюбленного 35 лет и ушедшей в монастырь после известия о его смерти, — пожалуй, сложнее: «…трагедия евангельской женщины, затоптанной высшей догмой, недоказуема, хотя и несомненна. Ибо не права идея, поправшая живую жизнь и чувство».