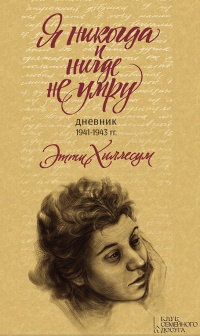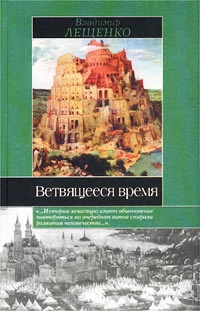Книга Мария Башкирцева. Дневник - Мария Башкирцева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отправляемся в Салон. Встречаем немало знакомых, среди них m-lle Аббема, которая сообщает мне, что ее шурин, Поль Манц (из «Temps»), признает за мной большой талант. Спустя немного времени мы встречаем известную художницу, m-lle Ароза. Она с дамой, которая представилась как дочь Поля Манца. Мне представляется немного глупым повторять все те лестные вещи, которые они мне преподнесли. Если это обыкновенные светские люди, я никогда об этом не говорю, зная, что учтивость требует таких комплиментов. Но когда Аббема и дочь Поля Манца говорят мне о том, что думает обо мне великий критик, они сильно настаивают на своих словах и тем дают мне понять, какое неслыханное счастье для меня представляет лестное мнение такого человека, как он.
Кажется, в «Temps» была статья обо мне. Кроме того, я получила 22 или 23 вырезки из различных журналов.
Очень много рассматривают мою картину, много рассматривают и меня. Я впервые надела платье из тонкой темно-синей шерсти – очень простое и очень шикозное. На голове черная соломенная шляпа в стиле Watteau.
С тех пор как Бастьен-Лепаж болен, я забыла про все уколы самолюбия. Я не боюсь его больше; есть в этом чувстве что-то похожее на удовольствие. Вообразите себе какого-нибудь повелителя, которого привыкли приветствовать издали с униженной сдержанностью и который вдруг упал в овраг, сломал себе ногу и нуждается в вашей помощи.
17 мая
Я вернулась из Булонского леса и застала Багницкого, который сказал мне, что у художника Боголюбова говорили о Салоне и что кто-то сказал, что моя картина похожа на картины Бастьен-Лепажа.
В общем, мне лестны все эти толки о моей картине. Мне завидуют, обо мне сплетничают, я что-то из себя представляю. Позвольте же мне порисоваться немножко, если мне этого хочется.
Но нет, говорю вам; разве это не ужасно и разве можно не огорчаться? Шесть лет, шесть лучших лет моей жизни я работаю, как каторжник; не вижу никого, ничем не пользуюсь в жизни! Через шесть лет я создаю хорошую вещь, и еще смеют говорить, что мне помогали! Награда за такие труды обращается в ужасную клевету!!!
Я говорю это, сидя на медвежьей шкуре, опустив руки, говорю искренне и в то же время рисуюсь. Мама понимает меня буквально, и от этого я прихожу в отчаяние.
Вот вам мама. Предположите, что почетную медаль дали X. Конечно, я кричу, что это недостойно, позорно, я возмущена, я в ярости и т. д. Мама: «Да нет же, нет, не волнуйся так. Господи, да она не получила награды! Это неправда! А если ей ее и дали, то только нарочно: все знают, что ты придешь в бешенство. Это сделано нарочно, а ты даешь провести себя, как дурочка! Полно же!»
Это не преувеличено, это только преждевременно: дайте только X. получить почетную медаль, и вы увидите, что она скажет все это.
Другой пример. Жалкий роман Y., который теперь в моде, выдерживает несколько изданий. Разумеется, я негодую: так вот пища большинства, вот что любит толпа! О tempora! О mores! Я готова побиться об заклад, что мама начнет ту же тираду, как в предыдущем случае! Это случалось уже не раз. Она боится, что я сломаюсь, что я умру от малейшего толчка, и в своей наивности хочет предохранить меня такими средствами, от которых у меня может сделаться горячка.
Приходит X., Y. или Z. и говорит:
– Знаете, бал у Ларошфуко был великолепен.
Я делаюсь мрачной.
Мама это видит и через пять минут рассказывает при мне что-нибудь, что должно разочаровать меня относительно этого бала; еще хорошо, если она не начнет уверять меня, что бала совсем не было.
Постоянно ребяческие выдумки и уловки, а я бешусь, что могут считать меня такой легковерной.
20 мая
В десять часов была в Салоне с Г. Он говорит, что моя картина так хороша, что мне, наверное, помогали.
Это ужасно!
Он осмеливается также сказать, что Бастьен никогда не умел делать картины, что он пишет портреты, что его картины – те же портреты, что он не может писать нагого тела.
Оттуда мы отправились к Роберу-Флери. Я с волнением рассказываю ему, что меня обвиняют в том, что я не сама написала мою картину.
Он об этом не слышал; он говорит, что в jury об этом не было и речи и что, если бы подняли об этом вопрос, он бы заступился. Он думает, что мы гораздо более взволнованы, чем на самом деле, и мы уводим его завтракать к нам, чтобы он успокоил и утешил нас.
– Как можно так волноваться из-за всего? Такую грязь нужно отшвыривать ногами.
– Я бы желал, чтобы при мне сказали такую вещь в jury, – восклицал он, – я бы тогда показал им! Если бы кто-нибудь осмелился сказать это, я бы уничтожил его тут же, на месте!
– О, благодарю вас.
– Нет, здесь дело совсем не в дружбе, тут дело в истине, которая мне известна лучше, чем кому-либо.
Он еще повторяет нам эти вещи, говорит, что я имею шансы получить медаль, ибо никогда нельзя знать заранее; кажется, у меня даже много шансов на это.
21 мая
Робер-Флери говорит, что Дюезу очень нравится моя живопись. Дюез входит в состав жюри, но я буду иметь против себя стариков.
Впрочем, я очень спокойна, занята своей болезнью и планами новых работ. Этот Салон и эти картины – все это прошлое, а я заглядываю в будущее. Пусть у меня и не будет медали, но ведь мою картину уже заметили.
Сегодня вечером у нас обедает Жулиан. Ему не хотелось прийти, говорит он, так как у него нет добрых вестей для меня. Тем не менее все как будто недурно сходит, но, когда приходит момент, каждый старается быть настороже.
Я, такая спокойная, боюсь, что начну волноваться.
Мы прочли несколько писем Гюи де Мопассана, и в этом прошел вечер.
Его чрезвычайно занимают письма мои и Мопассана. Жулиан в самом деле может заменить собой публику. Он, кажется, сделал новое открытие: что я не более как фанфаронка в дерзости, а в корне вещей ребенок, которого способно сразить одно грубое слово. Он говорит, что, если бы я только подождала пару дней, я могла бы написать такой ответ Мопассану, что он навеки остался бы в положении глупенького ребенка. Но так как я поспешила, то и вышло наоборот; я сыграла роль маленькой глупенькой девочки – девочки, которая разочаровалась в своем идоле и этим уничтожена.
22 мая
Я давно уже обещала навестить Каролюса Дюрана и сегодня утром вспомнила про свое обещание. Он принимает по четвергам утром. Мы и пошли к нему. Этот очаровательный человек одет был в бархатную куртку гранатового цвета, и, поверите ли, когда мы входили, он изображал какой-то испанский танец под звуки гитары, на которой наигрывал его друг. Впрочем, и я после играла на органе, а он пел.
Я становлюсь немного нервозной. Ровно год тому назад я испытывала подобную же глубокую тоску. Все это пустяки!
23 мая
Открытие выставки Мейссонье в пользу ночлежных домов.