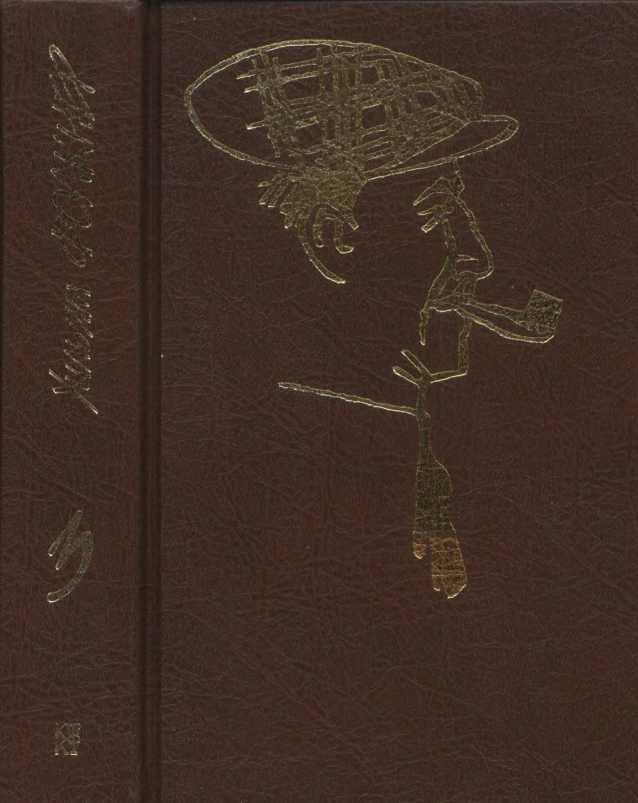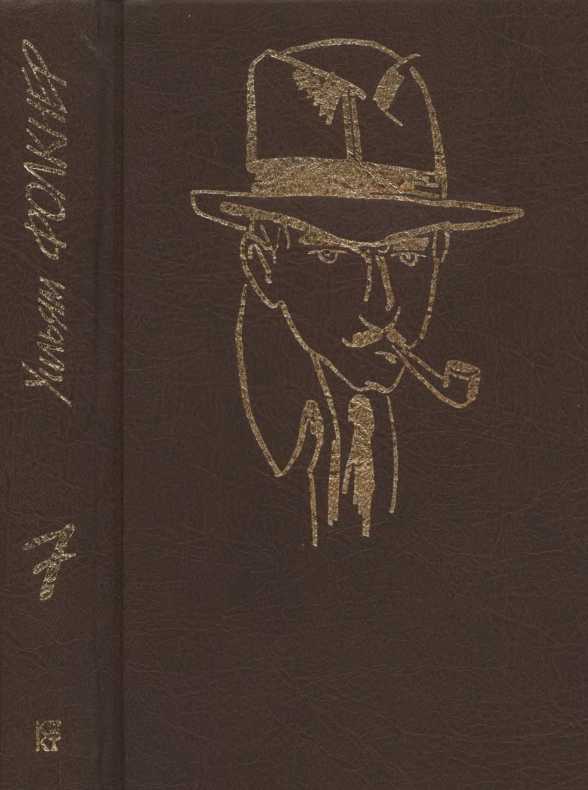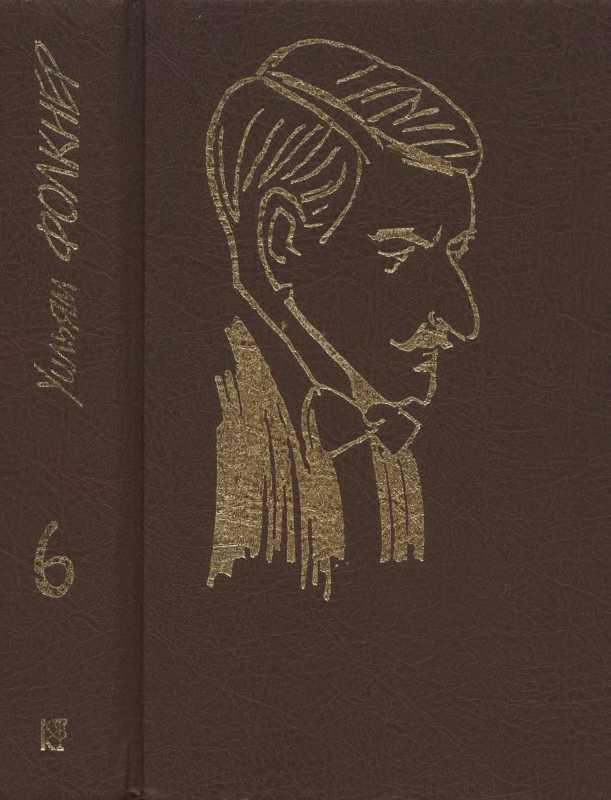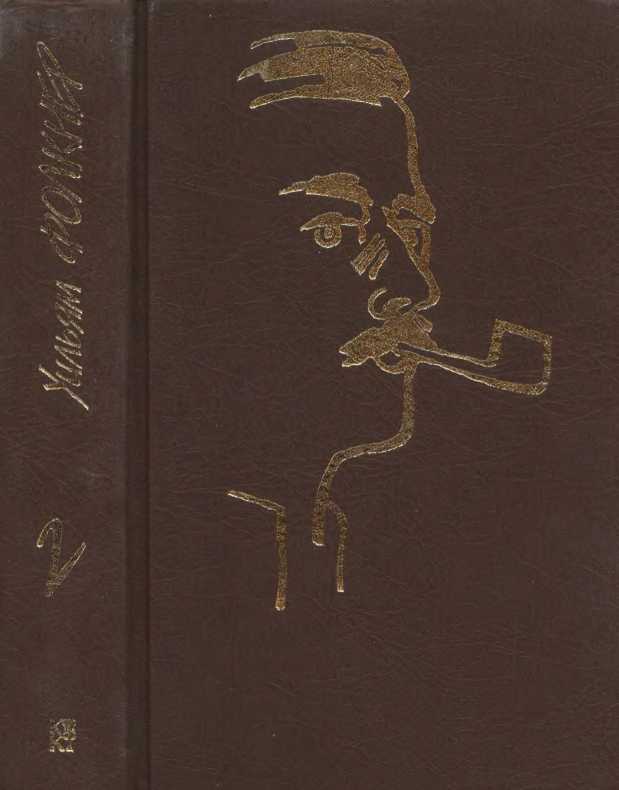Книга Собрание сочинений в 9 тт. Том 4 - Уильям Фолкнер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Ох уж мне твой отец, — вставил Шрив. — До чего ж он быстро получил кучу запоздалых сведений — всего каких-нибудь сорок пять лет прошло. Если он все это знал, почему он тогда сказал тебе, что Генри с Боном поссорились из-за окторонки?
— Он в то время этого еще не знал. Дедушка рассказал ему не все, потому что Сатпен тоже рассказал дедушке не все.
— Кто же тогда мог ему рассказать?
— Я, — Квентин не шелохнулся, не взглянул на Шрива, хотя тот не сводил с него глаз. — На следующий день после того, как мы… после той ночи, когда мы…
— А-а, — отозвался Шрив. — После того, как ты со старой тетушкой. Понятно. Продолжай. И еще твой отец рассказывал…
— … рассказывал, как он в тот день, наверное, стоял на веранде, ожидая, когда Генри со своим другом, о котором он писал всю осень, покажется на аллее, и как, прочитав в первом же письме Генри это имя, Сатпен, наверное, сказал себе, что этого просто не может быть, что даже ирония судьбы имеет пределы, за которыми она превращается либо в злую, но не смертоносную шутку, либо в безобидное совпадение; ведь, говорил отец, даже и Сатпену должно было быть известно, что никто еще не придумал такого имени, какого бы кто-нибудь не носил теперь или прежде; и вот они наконец подъехали к дому, и Генри сказал: «Папа, это Чарльз», и он… («Демон», — вставил Шрив)… увидел это лицо и понял: порою события принимают такой оборот, когда совпадение все равно что маленький мальчик, который прибежал на футбольное поле поиграть с мячом, а игроки, сталкиваясь друг с другом, носятся вокруг беззащитного ребенка, и в пылу борьбы за нечто, называемое победой или пораженьем, ни один из них про него не вспомнит и даже не заметит, кто явился и спас его от неминуемой гибели; он стоял у дверей своего собственного дома, точь-в-точь так, как он воображал, задумывал, планировал, и вот, спустя пятьдесят лет, одинокий, бездомный, безымянный, заблудившийся мальчик пришел, чтобы в них постучаться, и нет нигде под солнцем расфуфыренной обезьяны-черномазого, который мог бы прогнать этого мальчика от дверей; и отец сказал, что даже в ту минуту, даже зная, что Бон и Джудит еще никогда не видали друг друга, он наверняка почувствовал и увидел, как весь его замысел — дом, положение, потомство и все остальное — рушится, словно весь он был построен из дыма — без звука, без шороха, какой издает вытесняемый воздух, и даже не оставляя обломков. А он не хочет признать, что это возмездие, что он попал в яму собственных грехов или что это просто неудача, — нет, он называет все это ошибкой; он не мог найти эту ошибку сам и потому пришел к дедушке — даже не оправдываться, а изложить все факты, чтобы беспристрастный (и, добавил дедушка, юридически образованный) ум рассмотрел их, обнаружил его ошибку и ему на нее указал. Понимаешь, не моральное возмездие, всего лишь старая ошибка, которую человек, наделенный смелостью и умом (первой, как он еще раньше убедился, он обладал, а ума, по его мнению, он теперь тоже набрался), все еще смог бы преодолеть, если б только ему удалось узнать, в чем она заключалась. Потому что он не сдался. Он не сдался до самого конца, и дедушка говорил, что дальнейшие его поступки (например, то, что он некоторое время вообще ничего не предпринимал, от чего, вероятно, и возникло положение, которого он так страшился) объяснялись вовсе не недостатком смелости, ума или жестокости, а тем, что он был уверен, будто все произошло из-за какой-то ошибки, и не хотел рисковать, покуда не узнает, в чем эта ошибка заключалась.
Поэтому он пригласил Бона в дом и все две недели каникул (правда, на это не понадобилось столько времени; отец говорил, что миссис Сатпен, наверно, обручила Джудит с Боном в ту минуту, когда увидела имя Бона в первом же письме Генри) следил за Боном, Генри и Джудит или, вернее, за Боном и Джудит, потому что про Генри и Бона он все уже знал из писем Генри; следил за ними две недели и ничего не предпринимал. Потом Генри с Боном вернулись в университет, и теперь черномазый конюх, который каждую неделю доставлял почту из Оксфорда в Сатпенову Сотню и обратно, привозил Джудит письма, написанные отнюдь не почерком Генри (в чем, по словам отца, тоже не было никакой надобности, потому что миссис Сатпен уже разнесла по всему городу и округу весть о помолвке, которой, как говорил отец, еще даже и не существовало), а он все еще ничего не предпринимал. Он не предпринял ровно ничего до тех пор, покуда в самом конце весны Генри не написал ему, что пригласил Бона провести у них два-три дня перед его поездкой домой. Тогда Сатпен отправился в Новый Орлеан. Выбрал ли он это время, чтобы застать Бона и его мать вместе и покончить с этим делом раз и навсегда, или нет, никто не знает, равно как никто не знает, виделся ли он тогда с матерью Бона, согласилась она его принять или отказалась, или согласилась и он попытался еще раз с нею столковаться, быть может, даже откупиться от нее деньгами — ведь, как сказал отец, если человек способен думать, будто от оскорбленной, возмущенной и обозленной женщины можно отделаться доводами формальной логики, он вполне способен поверить, что ее можно купить деньгами — и из этого ничего не вышло; или если Бон был там, сам Бон отказался от его предложения, хотя никто никогда не мог сказать наверное, знал ли Бон, что