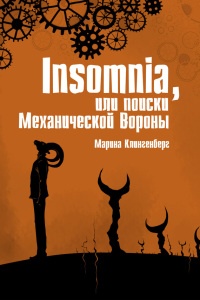Книга Морок - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Яков Тихонович посмотрел на него тихими, грустными глазами, словно спрашивая: о чем ты? – и ничего не ответил.
«Какая муха его укусила? – удивился Виктор. – Как мешком стукнули». Но вида не подал. Ждал, что скажет бригадир. Яков Тихонович молча махнул рукой. Иди, мол, работай, не лезь ко мне. Опять машина летела по дороге, два луча, пропарывая темноту, то подскакивали высоко вверх, то падали вниз и бросали отсветы на колок, на скирды соломы, и тогда колок и скирды начинали качаться.
Да что же случилось с Тихонычем, думал Виктор, что с ним такое? А, ладно, решил он, без меня разберутся, я здесь ни при чем. Выручу вот сегодня, поработаю немножко, и бу-у-удьте здоровы, дорогие земляки. После последней встречи с Любавой, после стыда, который еще и сейчас мучил – на коленях ведь стоял, дурак осиновый! – после пережитого за последние дни Виктор твердо решил уехать.
Сегодня, неожиданно для себя, он позавидовал мужикам, работающим на поле, поймал себя на том, что ему тоже хочется, как Ивану, болеть за какое-то дело, рвать за него глотку, до слез переживать. Нет, не получится у него, не получится. Он совсем другой. Надо уезжать. Любаву не вернешь, а прилепляться к другим Виктор не хотел.
Вот и поле. Видно, как ползут, покачиваются комбайны. «А сильны мужики, – с невольным уважением отметил Виктор. – На ходу подметки рвут».
Баба Нюра поднималась рано, до свету. Щепала лучину, топила комелек – холодно было уже по ночам; шаркала по полу шлепанцами, вздыхала, охала и сама с собой негромко разговаривала. Эти звуки, теплые, домашние, будили Любаву. Она просыпалась, но глаз не открывала, еще некоторое время лежала не двигаясь, слушала и улыбалась. Первые утренние минуты были для нее самыми счастливыми. Еще не надо было ни о чем думать, еще ничего не тревожило и не болело, и можно было просто лежать и только слушать.
Но надо вставать и начинать новый день. Любава оделась и вышла из своей комнаты на кухню.
– Баба Нюра, давай помогу.
– Да некого помогать. Умывайся, завтракать будем.
Умывальник еще стоял на улице. Холодная с ночи вода обжигала лицо, разгоняла остатки сна, а вместе с ними разгоняла и тихое спокойствие, которое Любава только что испытывала. День начинался, а вместе с ним начинались и неотступные думы. Решительно отрубив все, что ее связывало с Виктором, полностью избавившись от тягучей неопределенности, Любава словно застыла в растерянности. Уходить к Ивану? Она так и думала раньше. Но вдруг забоялась. Забоялась не за себя, за Ивана. Сможет ли он забыть, не вспоминать о пяти годах, хватит ли у него силы? Не вырвется ли потом обида попреками? Да, виновата она перед ним и перед их любовью, но нельзя ведь постоянно жить с ощущением этой вины.
С Иваном после тех именин они больше не виделись. Тогда Любава не находила себе места и делала совсем не то, что ей хотелось. Изображала буйное веселье, а сама, пугаясь и замирая, ждала: вот встанет сейчас Иван, решительно возьмет за руку и уведет. Так решительно и надежно, что ей не будет даже времени подумать, останется только одно – с радостью и легкостью подчиниться.
Думая об этом, Любава не замечала, что противоречит сама себе. Не догадывалась о главном – ее собственные душевные силы иссякли, и сама без посторонней помощи она уже не могла сделать решительного шага.
– Новость-то вчерашнюю слышала? – спросила ее баба Нюра, когда они сели за стол.
– Какую новость?
– Ну, про Ивана Завьялова. Чуть свадьбу у Великжаниных не разогнал. Шофера подъехали, ну, гулеванят сидят, а Иван-то с поля на мотоцикле приехал и давай их чихвостить. Кричит, глаза вытаращил, а сам, говорят, аж трясется весь. Забрал ключи, на одной машине уехал, а свадьба так и расстроилась.
Любава слушала и не могла представить себе кричащего, трясущегося Ивана. Не могла, потому что ни разу его таким не видела. А ей казалось, что она знает его хорошо, как саму себя.
Баба Нюра вдруг положила ложку на стол, передником вытерла сморщенные, полинялые губы и негромко заговорила:
– Ты, девка, послушай меня, старуху. Я тебе скажу. Я тоже молодой была. Боевяшша, да и личиком бог не обидел. Ты послушай, послушай. А у нас парень тут один был, Ефим, хороший парень, спокойный, разумный. Так он, как на веревочке привязанный, за мной ходил, все предлагал – давай, Нюра, поженимся. А я того – ветерок в голове! – насмешки строила да обещаниями кормила. А нравился мне Ефим, нравился, такой смиренный парень был. Водила его за нос, сама не знаю зачем. Потом натешилась, ну ладно, думаю, предложит, больше отказываться не буду. А он мне больше и не предложил. Тут война. Вернулся он в сорок четвертом, по ранению, и побежала я к нему сама. – Баба Нюра шумно вздохнула. – Полежали мы с ним три ночки на сеновале, а тут меня, как назло, турнули на лесозаготовки. Вернулась, а его опять уж на фронт забрали. Остались мне на всю жизнь только три ночки. Если бы не дурила, до войны мы бы два года могли пожить, глядишь, и деток бы еще нарожали. А так вот не довелось. Все последнего приглашения ждала.
Баба Нюра снова вытерла передником губы, взяла ложку, да так и не притронулась к еде, сидела задумавшись, смотрела в окно. Любава никогда не слышала, чтобы хозяйка рассказывала о себе. Она взволновалась и спросила, не удержалась:
– Замуж-то выходили потом? Дети же у вас?
– Дак это, Любанька, уж по необходимости, тут уж голова подсказывала, не сердце.
– Баба Нюра, для меня ведь рассказали, специально?
– Ну а для кого же! Сплю-то по ночам плохо, ты уж извиняй, слышала как-то разговоры ваши. Сколько времени? На работу-то не опоздаешь?
– Ой, бежать уже надо!
Любава на ходу поцеловала бабу Нюру в дряхлую щеку и выскочила на улицу.
Прозрачно, светло. Тополиные листья устилали переулок, и каждый шаг отзывался сухим шуршанием. Любава остановилась, подняла глаза и впервые за долгое время легко улыбнулась. Так улыбается человек после длинной дороги, когда замаячит впереди теплый, живой огонек. И она просто, буднично подумала: сегодня надо вы брать время, съездить на поле, увидеть там Ивана и все ему сказать. А вечером, сразу после работы, пойти и собрать чемодан.
Из дома, как обычно, Яков Тихонович направился в конюшню, запряг Пентюха, сел в кошевку, взял в руки вожжи и замер. А куда и зачем ему, собственно, торопиться? Застигнутый врасплох своей же собственной догадкой, бросил вожжи и суетливо зашарил по карманам, разыскивая курево.
Пентюх переступил с ноги на ногу, не дождался привычной команды и тихонько пошагал знакомой дорогой к конторе. Шагал и недоумевал: почему хозяин не подстегивает его сегодня, не кричит, а тихо-мирно сидит в кошевке, даже вожжи бросил?
Впервые за свое долгое бригадирство Яков Тихонович не знал, что ему делать. Хотя дела были и ждали его, он не думал сейчас о них. Мысли приходили разные, но, словно по кругу, они опять возвращались ко вчерашнему дню. Он начался обычно, не предвещая ничего особенного. Перед обедом вместе с Веней Яков Тихонович выехал в район на совещание. Одних за уборку ругали, других хвалили, а всех вместе подгоняли – быстрей, быстрей, как можно быстрей.