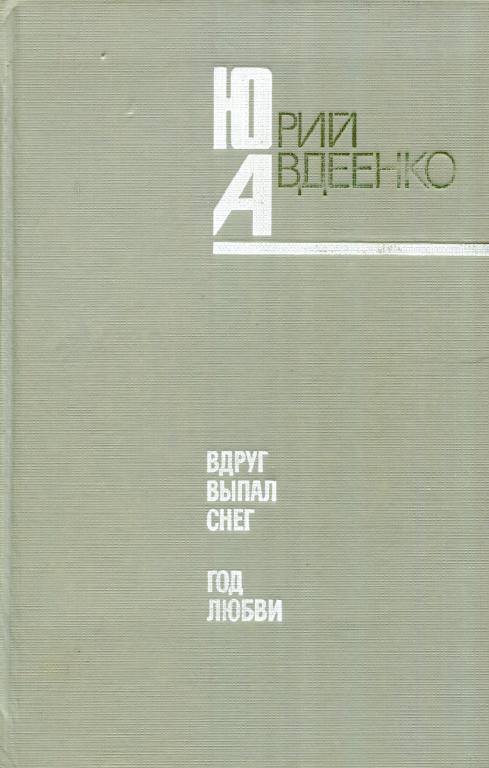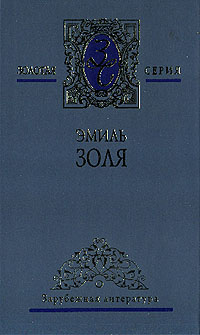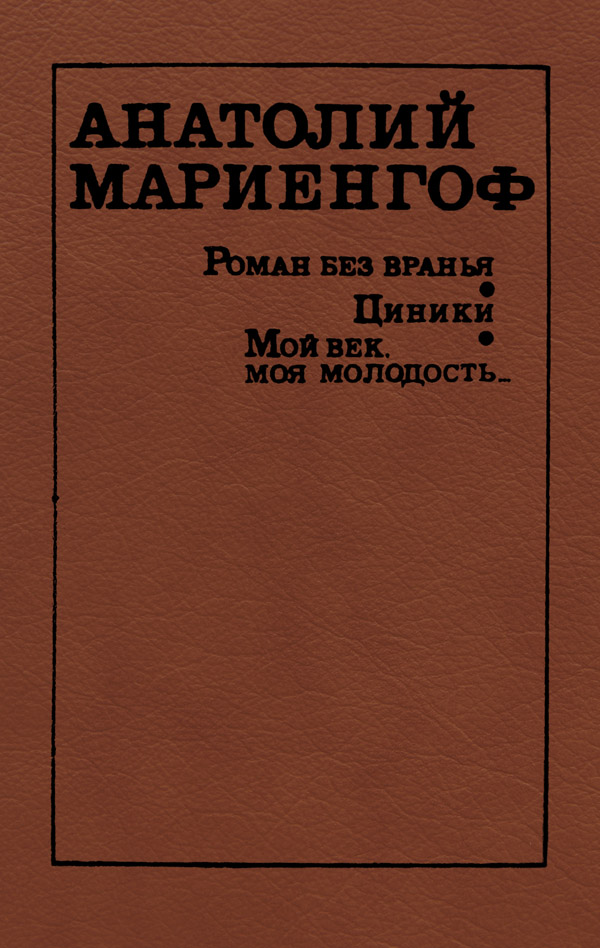Книга Вечерний свет - Анатолий Николаевич Курчаткин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Все это он проговорил тем самым весело-залихватским голосом — как бы не всерьез, в полушутку, но всерьез это было на самом деле, да с таким еще внутренним глубоким надрывом, что Евлампьев, когда он, обманутый поначалу тоном Виссариона, понял это, почувствовал себя на какой-то миг будто раздавленным: да Виссарион же ведь исповедуется ему — вот что!
— Нет, Саня, — сказал он, боясь глядеть Виссариону в глаза и, чтобы занять руки, сгибая и разгибая сухо шебаршащую газету. — Ты не прав. И зачем вообще наговаривать на себя?.. Люди не могут быть одинаковыми — это истина. И всегда, во все века, может быть. с того времени, как жизнь зародилась, как человек человеком стал, всегда были люди действия и люди духовного склада, созерцатели, как ты говоришь. Всегда. И обязательно. И общество не может жить без какого-то одного типа. Исчезни какой-нибудь — и все общество прахом пойдет, рассыплется — черепков после него не найдет никто. Люди действия, они обычно себя главными полагают, солью земли, и ладно, если полагают только, а то часто людей этого противоположного склада презирают просто. Считают их висящими у себя на шее, готовы, чуть что, каменьями их побить. Но ведь, подумать если, так им и делать-то нечего было бы, двигаться куда, не знали бы, если б не созерцатели. Созерцатели, они духовное аккумулируют, духовную крепость дают, смысл в любое дело вносят, освящают его как бы…
— Ну уж, Емельян Аристархович, ну уж!..— поусмехался Виссарион. И вдруг, враз как-то, это выражение залихватской веселости будто стекло с его лица. — Хорошо, Емельян Аристархович, — сказал он,— ладно, предположим, аккумулирую я что-то.., предположим. Так ведь накопленное-то уходить куда-то должно, переливаться в кого-то… в действие обращаться в ком-то?
— А думаешь, ие уходит? Не обращается? — Теперь, когда Виссарион перестал посмеиваться, Евлампьев смог наконец глядеть ему в глаза и псрестал шелестеть газетой, свернул ее трубкой и зажал в руках. — И уходит, и обращается. Ты лекции вот свои читаешь, семинары ведешь — разве не отдаешь себя, не перекачиваешь? Да ведь хоть и об одном и том же с каким-нибудь Ивановым-Сидоровым говорите, а все равно по-разному. Будто личное клеймо ча свонх лекциях ставите. И к Иванову-Сидорову, глядишь, — полно в аудитории, а к тебе — нет.
— У меня-то как раз полно.
— Ну вот, пожалуйста. — Евлампьев специально сказал так, чтобы Виссарион опроверг его, то, что на лекциях у Виссариона всегда битком набитая аудитория, он знал. — Прямое тому свидетельство, что заряжаются тобой, берут от тебя.
— Да нет, Емельян Аристархович,— складывая руки на груди крест-накрест — как, казалось всегда Евлампьеву, стоит он перед аудиторией, — покачал головой Виссарнон. — Преувеличиваете вы все. Оно, может, и берут, да не «может» даже, а точно, в этом я никогда не сомневался, и все правильно, по-моему, вы сейчас говорили, конечно, люди друг на друга воздействуют, не может иначе быть — простая довольно истина, но вот чтобы то, что берут от меня, в действие в ком-то переходило… Нет, не вижу я такого. Ухнуло будто куда-то, в бездонность какую-то, н полетело, и пропало…
— Чтобы семя, Виссарион, проросло, условия нужны. Влажность необходимая, температура, долгота дня. Будут условия — прорастет.
— Да нет, — снова покачал головой Виссарнон. — Я уж не верю в это… Просто другим не могу быть, вот и живу, какой есть…
Евлампьев ощутил, как в груди шероховато-горячим, тугим комом ворочается совершенно отцовское чувство нежности и жалости к Виссариону. Ему захотелось обнять его, прижать к себе его голову, душа уже совершила это, но руки не посмелн.
— Ты не прав, Саня, — только и сказал он. — Нет, Саня, не прав… Нельзя отчаиваться.
— Да я разве отчаиваюсь? — По лицу у Виссариона вновь стала разливаться та залихватская веселость. — Что вы! Ничуть не бывало. Я просто трезво смотрю на вещи. Не нужны сейчас люди моего склада. Не то что нет надобности, а не ко времени. Может, понадобятся когда. Сила же всегда у тех, кто, как вы говорите, человек действия.
— Так оно и естественно. Богу богову, а кесарю кесарево. Только гармония должна быть, равновесие…
— По идее, Емельян Аристархович, по идее. А в жизни не бывает.
— Бывает. Иначе бы мы с тобой кремневыми топорами где-нибудь сейчас хворост для костра рубили.
— А ведь вы идеалист, Емельян Аристархыч! — Виссарион уже отгородился от него этой своей веселостью — не пробиться к нему, спрятался в нее — не отыскать того, настоящего, минуту еще назад сидевшего на стуле напротив.Идеалист, чистейшей воды, стоического такого. склада.
— Я, Саня, — Евлампьеву было обидно и грустно, что Виссарион, едва приоткрывшись ему, тут же, с какою-то даже торопливостью, и закрылся. — Я, знаешь, надеюсь, что я, как вот и ты, интеллигент. Что могу причислить себя к ним. А всякий интеллигент — идеалист. А уж стоик или еще кто — каким время сделает. К эпикурейству, скажем, наше время не располагало.
Он замолчал, по лицу у Виссариона пробежал рябью какой-то свет, словно бы он хотел вновь выбраться из-за поставленной загородки, сказать что-то, но, пресекая его, в прихожей заиграл музыкальный звонок: триль-бон, триль-бон, триль-бон…
— Ксюха? — спросил Евлампьев.
— Она, наверно, ее звонок. Гостям рано еще.
Виссарион уступил Евлампьеву право открыть дверь, оставшись за его спиной, Евлампьев открыл это была она, Ксюша.
— Ой, де-ед! — сказала она, переступая через порог. — Уже пришли, да?
— Уже, уже, коза, — радостно улыбаясь и не в силах не улыбаться, сказал Евлампьсв. — Здравствуй!
Где это ты в