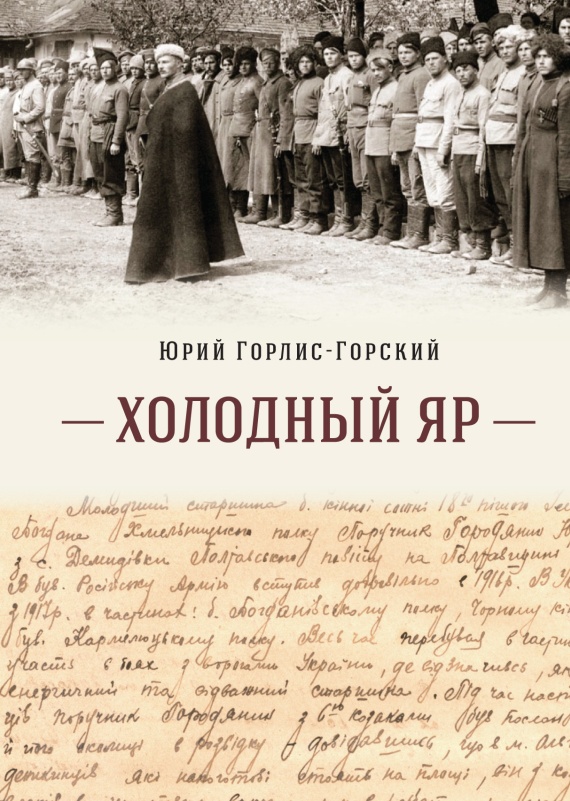Книга Безбилетники - Юрий Юрьевич Курбатов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вдруг понял, как нужно жить, и у меня в душе все будто остановилось. Я стал как ребенок в утробе матери: вокруг меня были только мир, тепло и защищенность. Это была точка отсчета, когда все мои чувства, может быть впервые в жизни, были настроены правильно. Я дорожил этим моментом, пытаясь прикоснуться к окружающему, ощутить его сквозь призму этого нового состояния, узнать, каково оно на самом деле, запомнить его. Я вспоминал прошлое, но находил только потерянные годы и здоровье. Я не видел в нем ни подвига и героизма, а только самообольщение и ложную альтернативу между подавленным ленью обывателем и музыкантом-самоубийцей. Я слышал шепот, что куда сложнее исправить себя, чем играть в первопроходца. Что чувства – это как расстроенная гитара и, тренькая на ней, ты доставляешь и себе, и окружающим одни неприятности. Что нужно не поражать всех своей искренностью, а учиться отстраивать свою гитару… Что правда бывает всякой. Суровой и справедливой, иногда даже злой. Но истина злой не бывает. От правды бывает больно, а от истины всегда легко и хорошо, потому что истина – это правда, облеченная в любовь. Что в мире безумия ничто не имеет ценности, а мир приходит к порядку только тогда, когда на простые вопросы отвечают понятными словами. Что в конце книги жизни каждого человека всегда стоит запятая.
Тогда я все это понял за какие-то мгновения. Это было ощущение, которым я до сих пор дорожу, и которое очень сложно передать словами.
Ощущения моего тела менялись, оно стало обретать границы, отяжелело. Медленно, будто собираясь по кусочкам, я приходил в себя. Я лежал дома, в кровати. За окном было темно. Холод заставил меня подняться. Я медленно встал, потрогал простыню. Кровать была ледяной, будто бы в ней до того лежал кусок металла. Я посмотрел на стол, на грязную постель, на разбитый стул, на чашку без ручки. Вышел из комнаты, окинул глазом когда-то счастливый, но теперь провонявший ацетоном и ангидридом дом, будто бы все это видел впервые, будто вернулся из долгого путешествия, из соседней галактики. Я был другим. И я заплакал от благодарности, стараясь не забыть, не растерять обретенное, надеясь, что действительно изменился, что простил обиды, что теперь не отступлю и не предам. Что все в прошлом, абсолютно все. Что вот прямо сейчас можно пойти и помириться с родителями, с друзьями, потому что я уже иной.
– Красиво говоришь! – заметил Монгол.
– Мы все говорим красивее, чем живем.
– И место красивое. – Монгол будто не услышал ответа.
За поляной потянулся горный скалистый обрыв. Деревьев становилось все меньше, лишь некоторые, изувеченные ветрами кривые сосенки торчали у самого его склона. Том обернулся. Сзади, на фоне светлеющего неба черной громадиной лежал могучий Чатырдаг. Вправо от него стелилась над морем оранжевая полоска зари. Слева тускло мерцали далекие огоньки Симферополя.
– Сейчас уже видно, фонари пора выключить: у лесников иногда бывают рейды на браконьеров, поэтому без лишней причины лучше не светить.
Пройдя большую, покрытую редкими деревцами прогалину, они уперлись в крутой, поросший соснами склон.
– Это самый тяжелый отрезок. Но он не длинный: еще полчаса, и мы наверху. От росы здесь будет скользко. Старайтесь ставить ноги не на траву, а на камень.
Михаил полез первым, то цепляясь за камни, то хватаясь за корни выворотней, то пролезая под поваленными ветром стволами сосен. Шли гуськом, глубокими зигзагами, забирая то влево, то вправо, чтобы не съехать вниз по траве. Последние метров тридцать дались особенно тяжело. Монгол повернулся посмотреть на оставшийся внизу луг, оступился и чуть не съехал вниз, успев упереться в поваленный ствол дерева.
– Держись! – Том схватил его за руку.
– Тут бы на санках. Самое оно, – хмыкнул он.
Наверху, над склоном, шла грунтовая дорога. По другую ее сторону начинался молодой сосняк. Слева, за кряжистыми сосенками, виднелось глубокое ущелье. Его вертикальные каменные стены уходили далеко вниз, исчезая в предутреннем тумане.
– Привал. – Послушник сел на поваленную, рассохшуюся от дождей и ветра сосну, снял свои разбитые ботинки и выжал промокшие от росы носки.
– А далеко еще? – Том присел рядом.
– Ты боишься опоздать в рай? Проблема в том, что не всех туда пускают. Ты, например, не крещен, так что я не знаю, увидим ли, – подмигнул он.
Том пожал плечами.
«Вот те здрасьте, – подумал он. – Опять шутит, или всерьез?»
Перейдя дорогу, они пошли напрямик, сквозь пушистый невысокий сосняк, забираясь по пологому склону все выше. Сзади снова замелькало темно-сиреневое море. Над ним в розовом тумане курились высокие причудливые башенки облаков. На востоке, над Черной, по-прежнему лежало облачко. Сверху оно выглядело тонким и невесомым.
Лес привел их к узкой балке между громадинами первобытных скал. Будто кто-то выдвинул их из земли, но как-то криво, небрежно, походя.
– Смотрите! – Михаил показал на вершину ближайшей скалы.
На ней, освещенные первыми лучами солнца, стояли две косули и, чутко прядя ушами, смотрели в сторону людей.
Миша достал бинокль, но косули, легкие как ветер, сорвались с места в галоп и скрылись по ту сторону хребта.
Они пошли дальше, вдоль покрытых короткой жесткой травой холмов, то спускаясь, то поднимаясь, пока солнце не озолотило склоны вокруг. Стало теплее. Наконец их путь преградила невысокая горная гряда.
– Ну вот, мы почти пришли, – трепетно прошептал Миша, явно волнуясь. – Последний рывок. Теперь тихо. Перемахнули, и сразу вниз. Старайтесь не маячить наверху, тут уже все просматривается.
Быстро перебравшись через